 |
 |
|
VIII.
Для возвращения к сюжетной линии Парнока автор «ЕМ» использует зачин, который он впервые опробовал в ст-нии о Петрограде 1918 г.: «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» Общая ситуация фрагмента восходит к «Двойнику» Достоевского: «Наконец господин Голядкин решился совсем, вдруг бросил трубку, накинул на себя шинель, сказал, что дома обедать не будет, и выбежал из квартиры». И далее: «Дoма бы чаю теперь выпить чашечку… Оно бы и приятно этак было выпить бы чашечку <…> Не пойти ли домой?» Ср. также в «Шинели» Гоголя: «…все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чайиз стаканов с копеечными сухарями ». Ср. там же мотив, дополнительно сближающий Акакия Акакиевича с Парноком в нашем фрагменте: «Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя по крайней мере в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам…» «Как канарейка» в комментируемом фрагменте подразумевает, в первую очередь, нетребовательность, неприхотливость в еде. Ср., например, в мемуарах Аполлона Григорьева «Мои литературные и нравственные скитальчества»: «Совокупляется он — браком, разумеется — с столь же добродетельною, прекрасною и еще более бедною, чем он сам, девицею; живут они как и следует, т. е. как кенар и канарейка, пересыпаясь непрерывно поцелуями и питаясь весьма скудною пищею». А также «Братьях Карамазовых» Достоевского: «Ведь ты денег, что канарейка, тратишь, по два зернышка в недельку…» Еще ср. в главке «Старухина птица» из автобиографического очерка О. М. «Феодосия» (1924): «Старушка жильца держала, как птицу, считая, что ему нужно переменить воду, почистить клетку, насыпать зерна. В то время лучше было быть птицей, чем человеком, и соблазн стать старухиной птицей был велик» (2: 397). Еще более важным в сравнении Парнока с канарейкой оказывается то, что эта птица в русской литературе часто описывалась как живая примета благоустроенного дома, налаженного быта и уюта. Ср., например, у В. Крестовского в романе «Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных»: «В окнах, за кисейными занавесками, увидите вы горшки с геранием, кактусом и китайскою розою, какую-нибудь канарейку или чижа в клетке, — словом, куда ни обернись, на что ни взгляни — все напоминает царство жизни мирной, тихой, скромной, семейственной и патриархальной». Но также важно указать, что «канарейка» у русских писателей часто представала символом легкомыслия и душевной пустоты. Ср., например, в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевского, где «канареечными» названы годы легкомысленной и безответственной молодости: Долгой опекой довели до того мабишь, что она не ропщет и не мечтает, как в иных варварских и смешных землях, учиться, например, в университетах и заседать в клубах и депутатах. Она лучше хочет оставаться в теперешнем воздушном и, так сказать, канареечном состоянии. <…> Когда проходят канареечные годы, то есть дойдет до того, что уж никаким образом нельзя более себя обманывать и считать канарейкой; когда возможность нового Гюстава становится уже решительною нелепостью, даже при самом пылком и самолюбивом воображении, тогда мабишь вдруг быстро и скверно перерождается.Мабишь — замужняя женщина. Ср. также с микрофрагментом из черновиков к «ЕМ», цитируемым в комм. к фр. № 103 («На завтрак был подан шпинат с гренками, старинное детское блюдо, символ невинности и канареечной радости») Во втором предложении комментируемого фрагмента речь идет о проведении или ремонте трамвайных путей, производившихся в начале ХХ века с помощью сварки (о ремонте трамвайных столбов ср. комм. к фр. № 86). В отличие от стыкующего способа соединения железнодорожных рельсов, сварка трамвайных рельсов помогает избежать шума. Электросварка, широко применявшаяся позднее, в 1910-х гг. не была широко распространена. Газовая сварка, уже достаточно популярная в то время, не давала возможности соединять крупные детали с большой площадью сечения торцов. Вероятно, у О. М. говорится о термитной сварке, при которой зазор между торцами рельсов заполнялся расплавленным металлом, полученным в результате окисления между оксидами железа и алюминием (магнием). «Паяние имеет целью соединять металлические поверхности легкоплавким сплавом. При П. необходимо, чтобы спаиваемые поверхности были нагреты выше температуры плавления припоя и хорошо очищены» («Словарь Брокгауза и Ефрона»). Ср. в ст-нии О. М. «Пароходик с петухами…» (1937): «И, паяльных звуков море / В перебои взяв, / Москва слышит, Москва смотрит, / Зорко смотрит в явь». Как такового термина «паяльные свечи» не существует. Под «паяльной свечой», видимо, подразумевается переносная газовая горелка (в других случаях, при более низких температурах плавления, использовалась более опасная паяльная лампа), необходимая, чтобы довести металл до расплавленного состояния. В конце XIX — начале XX в. для нагрева и расплавления металлов при сварке использовали ацителено-кислородное пламя. Ослепительно белый цвет имеет ядро ацетиленового пламени, такой же цвет приобретает пламя магния, используемого при термитной сварке, при нагревании более 600°C. В финале комментируемого фрагмента продолжено сравнение всего на свете с книгами. «Корректурные гранки — отпечатанный в одном экземпляре текст книги, даваемый автору для внесения поправок; верстать — привести текст в соответствие с размером страницы издающейся книги; брошюровать — скрепить определенное количество страниц книги» (Мец: 668). Вероятный источник комментируемого сравнения О. М. — пассаж из книги пятой главы второй «Собора Парижской Богоматери» Гюго, который здесь цитируем с сокращениями: С сотворения мира и вплоть до XV столетия христианской эры зодчество было великой книгой человечества, основной формулой, выражавшей человека на всех стадиях его развития — как существа физического, так и существа духовного. <…> Таким образом, в течение первых шести тысячелетий, начиная с самой древней пагоды Индостана и до Кельнского собора, зодчество было величайшей книгой рода человеческого. Неоспоримость этого подтверждается тем, что не только все религиозные символы, но и вообще всякая мысль человеческая имеет в этой необъятной книге свою страницу и свой памятник.Пример сходного переплетения книжных и городских мотивов находим в ст-нии Пастернака «Бальзак» (1927): «Он, как над книгами, поник / Над переулками глухими». Ср. также у Маяковского в «Приказе по армии искусств» (1918): «Довольно грошовых истин. / Из сердца старое вытри. / Улицы — наши кисти. / Площади — наши палитры. / Книгой времени / тысячелистой / революции дни не воспеты. / На улицы, футуристы, / барабанщики и поэты!». В микрофрагменте «верстал проспекты», по-видимому, обыгрывается звуковое сходство слов «верстка» и «верста» (ср.: «мерил версты»). Приведем также первоначальный вариант зачина VIII главки повести из черновиков к «ЕМ»: «Когда Парнок вернулся домой, растерзанный, безманикюрный, с мышьяковой ватой в канале больного нерва, с приплюснутыми носками, без воротничка “альберт” — 36, но со свежим окунем, купленным в живорыбном садке для умилостивленья суровой Эммы, он был поражен следующим обстоятельством: в квартире находилось постороннее лицо, человек…» (2: 578). Этот фрагмент был впоследствии подвергнут правке: «Это вам не Парнок с мышьяковой ватой в канале больного зуба, отдавленной в самосуде лакированной туфлей, без воротничка “альберт” — 36, со свежим окунем, купленным по случаю в живорыбном садке» (2: 578). На этом же листе записана и зачеркнута отдельная фраза: «Он купил по случаю окуня в живорыбном садке, чтобы умилостивить суровую Эмму» (2: 578). О «латышке Эмм»е, чье имя знаменательно совпадает с именем героини романа Флобера «Мадам Бовари», ср. комм. к фр. № 14 и 98. «Принц Альберт» — способ завязывания галстука, хорошо подходящий к рубашке с длинным воротником. № 190. Он подходил к разведенным мостам, В метафоре «разведенных мостов» воплощается мысль о неизбежности разъединения, разлуки и разрушения устойчивых связей, в том числе — исторических и биологических. Ср., например, в позднейшем «Ламарке» (1932) О. М.: «И от нас природа отступила — / Так, как будто мы ей не нужны, / И продольный мозг она вложила, / Словно шпагу, в темные ножны? / И подъемный мост она забыла, / Опоздала опустить для тех, / У кого зеленая могила, / Красное дыханье, гибкий смех…» Ср. также в ст-нии Георгия Иванова «Снастей и мачт узор железный…» (1915): «Снастей и мачт узор железный, / Волнуешь сердце сладко ты, / Когда над сумрачною бездной, / Скрипя, разводятся мосты». В начале ХХ в. в Петербурге насчитывалось 174 моста. Первый постоянный разводной мост через реку Неву был сооружен в 1842–1850 гг. Страх пустоты и преодоление пустоты, победа над пустотой — одна из ключевых тем русского модернизма в целом («Пустота всего страшней!» — из ст-ния Вячеслава Иванова “Horror vacui” 1891 г.) и творчества автора «ЕМ», в частности. Уже поэтический мир его дебютной книги «Камень» (1913) отличает «противопоставленность двух лирических рядов — бытие «я» в пустом мире и заполнение пустоты словесным строительством — аналогом архитектурных и других историко-культурных ценностей» (Тоддес: 79). «Мост» и «пропасть» (символ «пустоты») связаны общим контекстом в ст-нии О. М. «Пешеход» (1912): «И, кажется, старинный пешеход, / Над пропастью, на гнущихся мостках…», а также в его ст-нии «B Петербурге мы сойдемся снова.…» (1920): «…B черном бархате советской ночи, / В бархате всемирной пустоты, / Все поют блаженных жен родные очи, / Bсе цветут бессмертные цветы. / Дикой кошкой горбится столица, / На мосту патруль стоит…» Ср. также в комментируемом фрагменте и в финале «Невского проспекта» Гоголя: Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.Ср. комм. к фр. № 144. Еще ср. в «Двойнике» Достоевского о Голядкине: Положение его в это мгновение походило на положение человека, стоящего над страшной стремниной, когда земля под ним обрывается, уж покачнулась, уж двинулась, в последний раз колышется, падает, увлекает его в бездну, а между тем у несчастного нет ни силы, ни твердости духа отскочить назад, отвесть свои глаза от зияющей пропасти; бездна тянет его, и он прыгает, наконец, в нее сам, сам ускоряя минуту своей же гибели.Мотив страшной «пустоты» — один из ключевых в романе «Петербург» еще одного видного вкладчика «петербургского текста» — Андрея Белого. Оксюморон «пустота и зияние — великолепный товар», возможно, отсылает к ситуации «Мертвых душ» Гоголя. Но ср. и в «Четвертой прозе» (1930) О. М.: «Настоящий труд — это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы» (3: 178). Ср. также в ст-нии О. М. «1 января 1924»: «Кто веку поднимал болезненные веки — / Два сонных яблока больших, — / Он слышит вечно шум — когда взревели реки / Времен обманных и глухих. / <…> / Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох, / Еще немного — оборвут / Простую песенку о глиняных обидах / И губы оловом зальют. / <…> / Каким железным скобяным товаром / Ночь зимняя гремит по улицам Москвы, / То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром / Из чайных розовых — как серебром плотвы». О «товаре» в этом ст-нии О. М. см.: Ronen: 289. Разводными механизмами петербургских мостов служили рычаги (так называемые «журавли») и зубчатые колеса. О «мясистых рычагах паровозов» ср. фр. № 214. Ср. также в статье О. М. «О природе слова» (1922): «Подъемная сила акмеизма в смысле деятельной любви к литературе, ее тяжести, ее грузу, необычайно велика, и рычагом этой деятельной любви и был именно новый вкус» (1: 230). О рычагах, движущих литературный текст, писал Гоголь в «Мертвых душах»: «Как произвелись первые покупки, читатель уже видел; как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи герою, как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двигнутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече ее горизонт и вся она примет величавое лирическое течение, то увидит потом». Для совершения глобальных перемен рычаг требует себе и Петр Верховенский в «Бесах» Достоевского: «А главное — новая сила идет. А ее-то и надо, по ней-то и плачут. Ну, что в социализме: старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая, неслыханная! Нам ведь только на раз рычаг, чтобы землю поднять. Все подымется!» Ср. также в «Петербурге» Андрея Белого: «Трижды мой незнакомец проглотил терпкий бесцветно блистающий яд, которого действие напоминает действие улицы: пищевод и желудок лижут сухим языком его мстительные огни, а сознание, отделяясь от тела, будто ручка машинного рычага, начинает вертеться вокруг всего организма, просветляясь невероятно… на один только миг». В финале комментируемом фрагмента «годы» как бы поглощаются «громадами»: ГрОмаДАМИ — ГОДАМИ. Ср. в «Медном всаднике» Пушкина: «И ясны спящие громады / Пустынных улиц, и светла / Адмиралтейская игла». Ср. также с заглавием романа Федина «ГОрОДа и ГОДы» (1924). № 191. Он ждал, покуда накапливались таборы извозчиков Описанная О. М. ситуация восходит к типовой исторической картинке: враждебные друг другу племена (или войска) расположились лагерями по две стороны реки. Ср. также с эпизодом встречи Александра I и Наполеона 25 июня 1807 г. на специально сооруженном плоту посреди Немана, о котором О. М. вспомнил в ст-нии «Какая вещая Кассандра…» (1915): «Рукопожатье роковое / На шатком неманском плоту». Та же образность, что в комментируемом фрагменте, использована в рассуждении О. М. из «Шума времени» о себе и своем поколении: «…память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого <…> Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зияния, и между мной и веком провал, ров, наполненный шумящим временем» (2: 384). Образ «торцовой пустоты», вероятно, был взят О. М. из «Петербурга» Андрея Белого: «Запрудив тротуар, остановились прохожие; широчайший проспект был пуст от пролеток; не было слышно ни суетливого кляканья шин, ни цоканья конских копыт: пролетели пролетки, образуя там, издали, — черную, неподвижную кучу, образуя здесь — голую торцовую пустоту, о которую опять свистопляска кидала каскадами рои растрещавшихся капелек». О торцах ср. фр. № 79 и комм. к нему. О «цыганской» теме в «ЕМ» (в нашем фрагменте: «таборы извозчиков и пешеходов») ср. фр. № 3 и в комм. к нему. Еще ср. в «Шуме времени»: «Проскальзывали на блестящий круг и строились во внушительный черный табор рессорные кареты с тусклыми фонарями» (2: 365), а также в ст-ниях О. М. «Чуть мерцает призрачная сцена…» (1920): «Черным табором стоят кареты…»; и «Я буду метаться по табору улицы темной…» (1925): «Я буду метаться по табору улицы темной / За веткой черемухи в черной рессорной карете…». О «пешеходах» ср. в ст-нии О. М. «Императорский виссон…» (1915): «В темной арке, как пловцы, / Исчезают пешеходы, / И на площади, как воды, / Глухо плещутся торцы». Финал комментируемого фрагмента можно сопоставить со строками из более позднего ст-ния Пастернака «Анне Ахматовой» (1929): «…Я слышу мокрых кровель говорок, / Торцовых плит заглохшие эклоги. / Какой-то город, явный с первых строк, / Растет и отдается в каждом слоге». О городе-книге ср. фр. № 189. № 192. Он думал, что Петербург — его детская болезнь Весь фрагмент пронизан отсылками к «петербургскому тексту» русской литературы. Душевные переживания героя повести О. М. сродни переживаниям господина Голядкина из «Двойника». В повести Достоевского герой тоже пытается стряхнуть с себя «болезнь», которую сам называет «странным чувством»: Таким образом говоря, и словами себя облегчая, господин Голядкин отряхнулся немного, стряхнул с себя снежные хлопья, навалившиеся густою корою ему на шляпу, на воротник, на шинель, на галстук, на сапоги и на все, — но странного чувства, странной темной тоски своей все еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить с себя.С героем «Двойника» Парнока сближает и желание быть как все: Господин Голядкин, все еще улыбаясь, поспешил заметить, что ему кажется, что он, как и все, что он у себя, что развлечения у него, как и у всех…… что он, конечно, может ездить в театр, ибо тоже, как и все, средства имеет, что днем он в должности, а вечером у себя, что он совсем ничего; даже заметил тут же мимоходом, что он, сколько ему кажется, не хуже других… <…> Он решился лучше смолчать, не заговаривать, показать, что он так себе, что он тоже так, как и все, и что положение его, сколько ему кажется по крайней мере, тоже приличное. Чтобы стать «как все», Парнок беспредметно мечтает о женитьбе, и это также объединяет его со многими инфантильными, не умеющими воплотить своих желаний в жизнь, героями творцов «петербургского текста». Только в мечтах составляет матримониальные планы Евгений из «Медного всадника» Пушкина: «Жениться? Мне? зачем же нет? / Оно и тяжело, конечно; / Но что ж, я молод и здоров, / Трудиться день и ночь готов; / Уж кое-как себе устрою / Приют смиренный и простой / И в нем Парашу успокою / <…> / Так он мечтал». Мотив расстроившейся свадьбы очень часто встречается у Гоголя: не только в «Женитьбе», но и в «Носе» и «Мертвых душах». В «Двойнике» Голядкин, когда дело доходит до решительных действий (побега с Кларой Олсуфьевной), пасует, трусит: «Да, наконец, оно и нельзя; оно, сударыня вы моя, — если на то уж пошло, — так оно и нельзя <…> Да, наконец, и зачем, почему и какая надобность? Ну вышла бы там за кого следует, за кого судьбой предназначено, так и дело с концом. А я человек служащий; а я место мое могу потерять из-за этого <…> Тут человек пропадает, тут сам от себя человек исчезает и самого себя не может сдержать, — какая тут свадьба!» Сходные мотивы находим и в «Козлиной песни» Вагинова: «— А может быть, вся моя мужская сила в ум перешла. Как быть, как быть? — закрыл он дверь. — Жениться хочу, а, может быть, тело мое не хочет. Но некоторые очень поздно созревают. Может быть, и я созрею когда-нибудь». О детских болезнях Парнока ср. фр. № 129 и комм. к фр. № 168. Соединение темы Петербурга с темой детской болезни см. в зачине ст-ния О. М. 1930 г.: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез, / До прожилок, до детских припухлых желез». Описание северной российской столицы как «болезни» и дьявольского наваждения — общее место «петербургского текста». Приведем здесь лишь один пример из «Петербурга» Андрея Белого: Петербургская улица осенью проницает весь организм: леденит костный мозг и щекочет дрогнувший позвоночник; но как скоро с нее попадешь ты в теплое помещение, петербургская улица в жилах течет лихорадкой <…> И на этом мрачнеющем фоне хвостатой и виснущей копоти над сырыми камнями набережных перил, устремляя глаза в зараженную бациллами мутную невскую воду, так отчетливо вылепился силуэт Николая Аполлоновича в серой николаевской шинели и в студенческой набок надетой фуражке. Формулу «наваждение расколется», сходную с употребленной в комментируемом фрагменте («наваждение рассыплется»), см. во фр. № 155. Ср. также в очерке О. М. «Возвращение» (1923): «Утром рассеялось наваждение казино и открылся берег удивительной нежности холмистых очертаний» (2: 313); и в его «Четвертой прозе» (1930): «Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого как наваждение рассыпается рогатая нечисть» (3: 173). О характеристике «молодой человек» («молодые люди») см. фр. № 11 и комм. к нему. Выражение «чмокнет в ручку» встречается в позднейшем наброске О. М. о Чехове 1935 г., и там подразумевается «ручка» священника. В связи с этим напомним, что «в некотором роде дамой» Парнок считал о. Николая (Бруни) (ср. фр. № 67 и комм. к нему). Ср. также во «Второй книге» Н. Мандельштам комментарий к фрагменту «ЕМ» о целовании ручек: «Культ красавиц — специфика десятых годов, скорее петербургского, чем московского происхождения. К годам моей молодости “красавицам” было за сорок. Они перенесли голод и сильно полиняли. Мандельштам показывал мне одну за другой, и я только ахала, откуда взялись такие претензии!» О Трианоне ср. в черновиках к повести: «…почему же не приложить к воспаленному лбу или даже носу такой лимонадный листочек [с холодком царскосельских парков, с прохладцей Трианона, с паркетным спокойствием Версаля]?» (2: 580). «(Trianon) — название двух дворцов или, вернее, двух павильонов в Версальском парке. Большой Т. построен при Людовике XIV для г-жи де-Ментенон архитектором Мансаром в напыщенном итальянском вкусе того времени» («Словарь Брокгауза и Ефрона»). В 1925–1935 гг. над большим произведением «Русский Трианон» («Царскосельская поэма») работала Ахматова. Ср. также, например, у Пушкина в ст-нии «К вельможе»: «Ты помнишь Трианон и шумные забавы? / Но ты не изнемог от сладкой их отравы…»; и в «Козлиной песни» Вагинова: «Он пробегает последний век гуманизма и дилетантизма, век пасторалей и Трианона, век философии и критицизма и по итальянским садам, среди фейерверков и сладостных латино-итальянских панегириков, вбегает во дворец Лоренцо Великолепного». В комментируемом фрагменте Трианон упомянут в качестве места проведения шумных и веселых балов, на которых, как на любых светских мероприятиях, надлежало соблюдать определенный этикет. Внутренний бунт Парнока против этого этикета правомерно сравнить с сетованиями Голядкина из «Двойника» Достоевского: …Там у них, я говорю, в большом свете, Крестьян Иванович, нужно паркеты лощить сапогами… (тут господин Голядкин немного пришаркнул ножкой), там это спрашивают-с, и каламбур тоже спрашивают… комплимент раздушенный нужно уметь составлять-с… вот чего там спрашивают. А я этому не учился, Крестьян Иванович, — хитростям этим всем я не учился; некогда было. Я человек простой, незатейливый, и блеска наружного нет во мне. <…> …сами знаете, комплиментам не мастер, дамские там разные раздушенные пустячки говорить не люблю, селадонов не жалую… «Лахудра м. — ниже бляди, плеха, блядунья, плешничает которая, каз. ниж.» («Словарь В. И. Даля»); в комментируемом же фрагменте — просто опустившаяся женщина. Ср., например, в «Памятнике» (1899) Л. Андреева: То, что он увидел, было охарактеризовано им одним словом: «Экая лахудра!» В это понятие входило и лицо Паши, безнадежно, до унылости плоское и широкое с большими бесцветными и тупо-вопросительными глазами. Небольшой, задиравшийся вверх нос, имевший достаточно сил, чтобы подтянуть за собой верхнюю губу широкого рта, видимо, стеснялся своего возвышенного положения. Входил в это понятие и костюм Паши, в весьма отдаленной степени на поминавший о женском кокетстве, но не дававший возможности предположить, что хотя когда-нибудь он был нов, чист и сух.Ср. также в ранней редакции рассказа Зощенко «Матренища» (1923) в близком соседстве (как и у О. М.) с «бабищей»: «А как она Пашку Огурчика помоями окатила. Эх, лахудра! Злобная баба. Только что не кусалась. Да и кусалась. Эх, дай бог память, кого это она укусила? Да, Аниську укусила. В щеку Аниську укусила за то, что та селедку ей в долг не дала, вот протобестия бабища!» Словосочетание «собачья молодость», вероятно, должно соотноситься с идиомами «собачья жизнь» и «собачья старость». Ср., например, в «Верочке» Чехова: «Когда же я полюблю не насильно? Ведь мне уже под 30! Лучше Веры я никогда не встречал женщин и никогда не встречу… О, собачья старость! Старость в 30 лет!» Ср. также чуть выше в комментируемом фрагменте: «облезлая кошка» и «…сует к губам лапу». О желании Парнока стать драгоманом в Греции см. фр. № 45, об Артуре Яковлевиче Гофмане — фр. № 102. № 193. Вот только одна беда — родословной у него нет. В комментируемом фрагменте О. М. «передарил» Парноку собственную родственницу по матери — Иоганну Борисовну Копелянскую, долгое время жившую в Латвии и говорившую по-русски с сильным остзейским акцентом. Шутов и карликов во множестве держала при своем дворе императрица Анна Иоанновна, приходившаяся родной тетей Анне Леопольдовне — правительнице (так и не ставшей императрицей!) Российской империи с 9 ноября 1740 г. по 25 ноября 1741 г. Вступление на престол Анны Иоанновны, не имевшей детей, выдвинуло вопрос о преемнике ее. Желая сохранить русский престол за своим родом, императрица Анна приблизила 13-летнюю племянницу к своему двору и окружила ее штатом служителей и наставников <…> Так прожила она четыре года, до вступления в брак (1739). Он был ускорен тем, что Бирон замыслил женить на А. своего сына Петра. Отвергнув предложение Бирона, А. изъявила согласие на супружество с Антоном-Ульрихом, и брак был отпразднован 3 июля 1739 года. Бирон возненавидел новобрачных и портил их жизнь, насколько мог («Словарь Брокгауза и Ефрона»).После воцарения Елизаветы Анна Леопольдовна с семейством около года жила в Риге. Различные варианты пословиц с «чертом», «сватом и братом» находим в «Словаре В. И. Даля»: «И добрый сват — собаке брат»; «Сватушка, сват; а занял, так и черт не брат!»; «У нашего свата ни друга, ни брата»; «Так зазнался, что и черту не брат» и др. В нашем фрагменте существительные «чорт», «сват», «брат» и имя фаворита императрицы Анны Иоанновны «Бирона» складываются в смысловую цепочку: чорт — Бирон (весьма дурно изъяснявшийся по-русски) — сват — брат. «Коротенькие» «ручки» другого своего родственника — Юлия Матвеевича Розенталя — будущий автор «ЕМ» описывает в «Шуме времени» (2: 374). Ср. также в предыдущем фрагменте «ЕМ» про «ручки дам». Обер-фрейлиной (в своем роде — «горничной») Анны Леопольдовны была Юлиана фон Менгден, чью родную сестру звали «Анна». Имя «Аннушка» в русской литературе часто присваивалось прислугам. См., например, в «Человеческой душе» (1926) Пантелеймона Романова: «К Ирине стала в последнее время ходить Аннушка, прислуга из соседнего дома»; в «Белой гвардии» Булгакова: «Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой»; в «Обручении Даши» (1913) Брюсова: «Аннушка стащила с хозяина тяжелые сапоги и подала ему на ночь квасу»; в «Анне Карениной» Толстого: «— Выходить изволите? — спросила Аннушка. — Да, мне подышать хочется» и проч. О Психее-душе-женщине ср., например, в ст-нии О. М. «Когда Психея-жизнь спускается к теням…» (1920): «Душа ведь — женщина, ей нравятся безделки». Возможно, в финале комментируемого фрагмента содержится ироническая отсылка к следующему обращению из «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева: «— К чему такая суровость, Аннушка, душа моя?» № 194. Да, с такой родней далеко не уедешь. Впрочем, как это Ключевой ход комментируемого фрагмента (литературная родословная вместо семейной) был «предсказан» в «Шуме времени»: «Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, — и биография готова» (2: 384). Зачин комментируемого (и предыдущего) фрагмента явственно соотносится с пушкинской «Моей родословной». Приведем также два примера, взятых из произведений творцов «петербургского текста» и демонстрирующих кардинально несхожее отношение персонажей к своим родословным: «Велика важность надворный советник! вывесил золотую цепочку к часам, заказывает сапоги по тридцати рублей — да черт его побери! я разве из каких-нибудь разночинцев, из портных или из унтер-офицерских детей? Я дворянин…» (Поприщин из «Записок сумасшедшего» Гоголя); «…да и куда нам затеи затевать! Не графского рода! Родитель мой был не из дворянского звания и со всей-то семьей своей был беднее меня по доходу…» (Макар Девушкин из «Бедных людей» Достоевского). Согласно Табели о рангах в период между 1799 и 1884 гг. гражданскому чину титулярного советника в армии соответствовал капитан. Поэтому «титулярный советник Яков Петрович Голядкин» действительно может быть назван «капитаном». Кроме того, О. М., пользуясь привычным для себя и читателя «ЕМ» методом, скрещивает «господина Голядкина» из «Двойника» с «капитаном Лебядкиным» из «Бесов». Упоминаемые далее «коллежские асессоры» провоцируют читателя вспомнить о «Носе» Гоголя: Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор <…> Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не назвал себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка, — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки, — ты приходи ко мне на дом; квартира моя в Садовой; спроси только: здесь ли живет майор Ковалев — тебе всякий покажет».Ср. также в «Чиновнике» Некрасова: «Питал в душе далекую надежду / В коллежские асессоры попасть, — / Затем, что был он крови не боярской / И не хотел, чтоб в жизни кто-нибудь / Детей его породой семинарской / Осмелился надменно попрекнуть». Титулярными советниками, кроме Голядкина, были Акакий Акакиевич Башмачкин из «Шинели» («Что касается чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие повальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться»), Поприщин из «Записок сумасшедшего» («Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником?») и Макар Девушкин из «Бедных людей» («Позвольте, маточка: всякое состояние определено Всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то безропотно в страхе повиноваться <…> А так как разные чины бывают и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный, — это в порядке вещей!»)… Из «Медного всадника», где о Евгении говорится только, что он «где-то служит» и «что служит он всего два года», перенесена О. М. в комментируемый фрагмент закавыченная (слегка измененная) цитата: «О чем же думал он? о том, / Что был он беден, что трудом / Он должен был себе доставить / И независимость и честь; / Что мог бы бог ему прибавить / Ума и денег». Ср. также в «Бедных людях»: «И пожалеешь, Варенька, о себе, что сам-то не того да не так; что, по пословице — вырос, а ума не вынес». Обобщенное представление о том, как унижали и оскорбляли «маленьких людей», дано в письме Макара Девушкина к Вареньке Доброселовой: «Да мало того, что из меня пословицу и чуть ли не бранное слово сделали, — до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались: все не по них, все переделать нужно! <…> Меня гонят, маточка, презирают, на смех подымают, а хозяйка просто меня бранить стала; кричала, кричала на меня сегодня, распекала, распекала меня, ниже щепки поставила». «С лестниц спускали» (буквально, а не метафорически) персонажей «Бедных людей» и «Двойника» Достоевского: Но тут-то меня и выгнали, тут-то меня с лестницы сбросили, то есть оно не то чтобы совсем сбросили, а только так вытолкали (Макар Девушкин); Ошельмовать — лишить честного имени. Однокоренное с глаголом «шельмовали» существительное «шельмец» настойчиво повторяется в «Двойнике»: Желал бы я знать, чем он именно берет в обществе высокого тона? Ни ума, ни характера, ни образования, ни чувства; везет шельмецу! Господи боже! Ведь как это скоро может пойти человек, как подумаешь, и «найти» во всех людях! И пойдет человек, клятву даю, что пойдет далеко, шельмец, доберется, — везет шельмецу! <…> Я буду особо, как будто не я, — думал господин Голядкин, пропускаю все мимо; не я, да и только; он тоже особо, авось и отступится; поюлит, шельмец, поюлит, повертится, да и отступится <…> я знаю теперь, кто здесь за них работает: это шельмец работает, самозванец работает! <…> На этот раз проходил известно кто, то есть шельмец, интриган и развратник… О «сороковых» «годах» уже писалось во фр. № 194 в связи с темой скандала, тесно переплетенной с темой «маленьких людей», и там жизнь тоже смешивалась с литературой: «Скандалом называется бес, открытый русской прозой или самой русской жизнью в сороковых, что ли, годах». В 1840-е гг. были, в частности, написаны «Шинель» (1842) Гоголя, «Бедные люди» (1846), «Двойник» (1846) и «Господин Прохарчин» (1847) Достоевского; в 1850-е — его же «Дядюшкин сон» (1859) и «Село Степанчиково и его обитатели» (1859), а также «Обломов» (1859) Гончарова. Соседствующие у О. М. слова «оБОРМОТы» и «БОРМОТать» сцеплены не только семантически, но и фонетически. В 1925 г. будущий автор «ЕМ» перевел и снабдил предисловием повесть Жюля Ромена «Обормоты». Согласно Фасмеру, «слово обормóт вместе с вариантом бормóт образовано от бормотáть». Ср. в ст-нии О. М. «Старик» (1913), портретирующем типичного «маленького человека» начала ХХ в.: «Он богохульствует, бормочет / Несвязные слова…», а также обращенную к северной столице реплику из ст-ния Пастернака «Петербург» (1915): «Волн наводненья не сдержишь сваями. / Речь их, как кисти слепых повитух. / Это ведь бредишь ты, невменяемый, / Быстро бормочешь вслух». «Бормочут», не в силах преодолеть своей робости, главные герои «Шинели» и «Двойника»: Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большей частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: «Это, право, совершенно того…», а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все это уже выговорил; Размахайки (ироническое именование плащей-крылаток) вошли в моду лишь в конце XIX в. — их носили «маленькие люди» Чехова, Куприна и Горького, но не Гоголя и Достоевского. Слово «застиранные» в русской литературе тоже стало употребляться гораздо позднее 1840–1850-ых гг. О перчатках «маленьких людей» известно лишь то, что у Голядкина «из всех приобретений, сделанных им в то утро, оказалась в действительности лишь одна пара перчаток и стклянка духов в полтора рубля ассигнациями». Ср. также у В. Соллогуба в повести «Большой свет»: «И какими глазами ты будешь смотреть на женщину, которую ты любишь, если она знает, что ты приехал на бал на извозчике за двугривенный, о котором ты торговался; если мундир твой изношен, если перчатки твои нечисты, если где-нибудь в твоей светской жизни промелькивают лохмотья?» Глаголы «проживал» и «проживали» в петербургских повестях Гоголя почти не встречаются. Чуть больше их любил молодой Достоевский: «Потом он заметил, что я весьма бедно живу, что не диво, если я больна, проживая в такой лачуге» («Бедные люди»); «Ваша матушка, смею спросить, где большею частию проживала?» («Двойник»); «Услышите вы, Настенька (мне кажется, я никогда не устану называть вас Настенькой), услышите вы, что в этих углах проживают странные люди — мечтатели» («Белые ночи»). Возможно, в комментируемом фрагменте обыгрываются два значения слова «проживали». Ср. с пословицей «Живет не живет, а проживать проживает» — то есть тратит. Каланча на «Садовой» улице упомянута во фр. № 118 (см. комм. к этому фр.). На Садовой улице жил гоголевский майор Ковалев. Также ср. в повести Гаршина «Надежда Николаевна» (1885): В тот же день вечером я перевез Семена Ивановича к себе. Он жил на Садовой, в огромном, снизу доверху набитом жильцами доме, занимавшем почти целый квартал между тремя улицами. Наиболее аристократическая часть дома, выходившая на Садовую, была занята меблированными комнатами отставного капитана Грум-Скжебицкого, отдававшего свои довольно грязные и довольно большие комнаты начинающим художникам, небедным студентам и музыкантам. Таков был преимущественный состав жильцов сурового капитана, строго наблюдавшего за благочинием своего, как он выражался, «óтеля». Подъяческая улица упоминается во фр. № 182 (см. комм. к этому фр.). Средняя из Подьяческих улиц в литературе прославилась как адрес старухи-процентщицы из «Преступления и наказания» Достоевского. Ср. также в «Петербургских трущобах» (1864) Крестовского: «Близ Обухова моста и в местах у церкви Вознесенья, особенно на Канаве, и в Подьяческих лепится население еврейское, — тут вы на каждом почти шагу встречаете пронырливо-озабоченные физиономии и длиннополые пальто с камлотовыми шинелями детей Израиля». Еще ср. в «Литературных воспоминаниях» Григоровича (1892): «Около двух недель бродил я по целым дням в трех Подьяческих улицах, где преимущественно селились тогда шарманщики, вступал с ними в разговор, заходил в невозможные трущобы, записывал потом до мелочи все, что видел и о чем слышал». О «домах, сложенных из черствых плиток каменного шоколада», ср. в ст-нии О. М. «Вы с квадратными окошками, невысокие дома…» (1924): «Шоколадные, кирпичные, невысокие дома…»; и в «Шуме времени»: «Проходил я раз с няней своей и мамой по улице Мойки мимо шоколадного здания Итальянского посольства» (2: 353). По-видимому, подразумевается элемент декора зданий, называемый рустовкой, — нанесение рельефной кладки с выпуклой лицевой поверхностью (так называемыми рустами). В детском восприятии такая поверхность неотличима от рифленых плиток шоколада. Ср. также в «Щелкунчике» Гофмана, где по сказочным законам укрепления возводятся из шоколадных плиток: «Не так давно бедным конфетенхаузенцам угрожала армия комариного адмирала, поэтому они покрывают свои дома дарами Бумажного государства и возводят укрепления из прочных плит, присланных Шоколадным королем». Ситуация «с высшим образованием и без гроша в кармане» часто возникает у Чехова. Ср., например, в его рассказе «О Любви»: «Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки <…>, верчусь как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша». Формула «без гроша» очень часто встречается у позднего (1870-х гг.), но не у раннего Достоевского. Ср., впрочем, комм. к фр. № 196. № 195. Надо лишь снять пленку с петербургского воздуха, и тогда Ключевая для комментируемого фрагмента тема иллюзорности внешнего облика Петербурга, под которым скрывается страшная пустота, вероятно, восходит к финалу «Невского проспекта» Гоголя, изобличающему всевозможные мнимости центральной столичной улицы: «О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется!» и т. д. Ср. также в «Подростке» Достоевского: Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?» Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что все это фантазия, наконец, поэзия, а стало быть, вздор; тем не менее мне часто задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос: «Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится, — и все вдруг исчезнет».Ср. и у самого О. М. в «Шуме времени»: «Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался — и бежал, всегда бежал» (2: 354). Ср. там же, но уже о литературе: «И, в этот зимний период русской истории, литература в целом и в общем представляется мне как нечто барственное, смущающее меня: с трепетом приподымаю пленку вощеной бумаги над зимней шапкой писателя» (2: 392). Употребляя слово «пленка» в «ЕМ», автор повести имеет в виду два его значения: 1) Пленка — пелена, покров; 2) Пленка — тонкая кожица, ткань, покрывающая какой-н. орган, плева. В реальной основе комментируемого фрагмента — постоянная задымленность, непрозрачность петербургского воздуха, которая тоже часто описывалась создателями «петербургского текста». Ср., например, в «Двойнике» Достоевского: «Наконец, серый осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой гримасою заглянул к нему сквозь тусклое окно в комнату, что господин Голядкин никаким уже образом не мог более сомневаться, что он находится не в тридесятом царстве каком-нибудь, а в городе Петербурге…»; и в «Петербурге» Андрея Белого: ««Над Невой бежало огромное и багровое солнце за фабричные трубы: петербургские здания подернулись тончайшею дымкой и будто затаяли, обращаясь в легчайшие, аметистово-дымные кружева…»» Обращает на себя внимание сгущенность фонетических каламбуров в комментируемом отрывке, к расшифровке которых «настойчиво приглашает нас сам автор, указывая на “совсем неожиданный” слой, скрытый под очевидными реалиями» (Мазур: 198). ГАГАчьим — ГАГАринским; ТУЧКовыМИ — ТУЧКаМИ; ЗЕрКАльНыМИ — ЗЕНКАМИ. Подразумеваются Гагаринская (она же — Французская) набережная (где, в частности, располагался дом сенатора Аблеухова из «Петербурга» Андрея Белого), Лебяжий канал и Лебяжьи мосты, а также Тучков мост. Все три субстанции, перечисленные в отрывке (пух, тучки, пирожные буше) — легкие, «воздушные». Ср. в ст-нии О. М. “Tristia” (1918): «Смотри: навстречу, словно пух лебяжий, / Уже босая Делия летит!», а также в его очерке «Киев» (1926): «…у ног его лежали нежные как гагачий пух опилки» (2: 437). Ср. еще в позднейшем ст-нии О. М. «Эта область в темноводье…» (1936): «Белизна снегов гагачья / Из вагонного окна…». «Самый ценный пух гагачий (см. Гага), затем гусиный, индюшачий и др. Самка гаги меньше самца, ржавого и темно-бурого цвета. Пух ее, которым Г. выстилает гнезда, ценится очень высоко, почему возник промысел добывания его» («Словарь Брокгауза и Ефрона»). Ср. еще о «пере» в финале комментируемого фрагмента. Наряду с этим можно отметить, что в начале ХХ в. большой популярностью пользовалась недорогая пудра под названием «Лебяжий пух». Ср., например, у Г. Иванова в «Петербургских зимах»: «Теплый ветер сдувал с моего свежебритого подбородка остатки “Лебяжьего пуха”». По предположению Н. Н. Мазур, в комментируемом фрагменте каламбурно обыгрываются фамилии трех художников: князя Гагарина, Франсуа Буше и Анны Остроумовой-Лебедевой (Мазур: 198–199). О Франсуа Буше ср.: Морозов: 278. Буше — пирожное из особого бисквита (смесь пшеничной и картофельной муки), напоминающее по форме маленькие круглые булочки, но начиненные мармеладом или желе, а иногда — кремом. Ср., например, в повести И. Шмелева «Человек из ресторана» (1911): «Зефиром у нас называется вроде пирожного — буше там и вообще воздушное». Образ зеркальных зенок «барско-холуйских квартир» расшифровывается во фр. № 208. О «заразности» Петербурга см. фр. № 192 и комм. к нему. Гусиным перышком, смазанным в керосине, снимают у детей белый гнойный налет в горле, образующийся при дифтерите и называющийся дифтеритной пленкой. «Дифтерит (от греч. diphtera кожа). Заразная болезнь, состоящая в омертвении слизистой оболочки зева и дыхательных путей» (Чудинов А. «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», 1910). Ср. также фр. № 129. № 196. — Комарик звенел:
«В этом комарином монологе самоуничижение происходит как бы на глазах у читателя: в первом абзаце комар — маленький князь и нищий Рамзес; во втором — коллежский асессор, частица безликой массы, с намеком на стихи Случевского; в третьем он просит только на поддержанье жизни и продолженье рода, с намеком на “Сфинксов над Невой” В. Иванова и “Нашу грозу” Б. Пастернака; в четвертом он уже ничего не просит и готов платить только за свое существование» (Гаспаров 2000: 38). Подразумевается ст-ние Случевского «Коллежские асессоры». Прямая фабульная связь комментируемого фрагмента с предыдущим отсутствует, что провоцирует читателя искать внефабульные (ассоциативные и другие) связи. По наблюдению О. Ронена, наш отрывок связан с заглавием повести О. М.: появляющийся в «ЕМ» «комарик» — «последний египтянин» — «это метатеза: комар — марка. Таким образом, египетская марка включается в серию мандельштамовских образов эфемеричности человека и бренности развоплощающейся материальной культуры — милого Египта вещей» (Ронен: 30). Слово «АСеССоР» звучит сходно со словом «АССиРиец». Автохарактеристика «комарика» как «коллежского асессора из города Фив» позволяет увидеть в нем еще одну ипостась все того же «маленького человека». Ср. во фр. «ЕМ» № 194: «А коллежские асессоры, которым “мог господь прибавить ума и денег”». Ср. в свою очередь с выводами К. Ф. Тарановского, который пишет, что «на фоне широкого контекста образ “комариного князя” сближается не только с семантическим полем Природа, но и с полем Поэзия, а, может быть, также с полем Я» (Тарановский: 49). Среди выявленных Тарановским подтекстов образа «комариного князя» — ода Державина «Похвала Комару», где Комар «по усам — ордынский князь» (Тарановский: 47), а также первая строфа ст-ния О. М. 1922 г.: «Я не знаю, с каких пор / Эта песенка началась — / Не по ней ли шуршит вор, / Комариный звенит князь»; и строки из его ст-ния «Как тельце маленькое крылышком…» (1923): «Как комариная безделица / В зените ныла и звенела…» (Тарановский: 49). О египетских комарах ср., например, в «Истории» Геродота (Кн. Вторая): Против несметных комаров египтяне придумали вот какие предохранительные средства. Жители [возвышенной части страны], что над болотами, строят себе особые спальные помещения в виде башен, куда и забираются спать. Ведь комары от ветра не могут летать высоко. Жители же болотистой области вместо башен применяют другое устройство. У каждого там есть рыбачья сеть, которой днем ловят рыбу, а ночью пользуются вот как. Сеть эту натягивают в виде полога вокруг спального ложа. Потом подлезают под полог и там спят. Если спать покрытым плащом или под кисейной простыней, то комары могут прокусить эти покрывала, тогда как сквозь сеть они даже не пробуют кусать. Встречающиеся в комментируемом фрагменте экзотические характеристики комара — «ПеСтУН» и «ПлаСтУН» входят в тот же ряд фонетически сходных существительных, что и оставшееся за кадром нашего отрывка ключевое слово — «ПиСкУН». Ср. также употребление слова «пестун» в «египетском» контексте в ст-нии Вячеслава Иванова «Как в буре мусикийский гул Гандарв…» из его «Золотых завес»: «Как будто златокрылый Ра пилонов / Был твой пестун и пред царевной ник / Челом народ бессмертных фараонов». Пестун (устар.) — наставник; пластун, здесь — разведчик. Ср., например, в «Войне и мире» Толстого: «— Это кто? — спросил Петя. — Это наш пластун. Я его посылал языка взять». Не содержит ли слово «пестун» из комментируемого фрагмента намека на фамилию одного из прототипов главного героя повести — «Пестовский» (ср. комм. к фр. № 62, 63 и 91)? «Рамзес (Ramses), имя неск. египетских фараонов » («Словарь Брокгауза и Ефрона»). В комментируемом фрагменте, вероятно, подразумевается Рамзес II Великий, с правлением которого часто проводились параллели в русской истории. Именно ему посвящена пьеса Блока «Рамзес. Сцены из жизни древнего Египта», в которой, в частности, фигурируют плакальщицы. Ср. также в «Петербурге» Андрея Белого: «Чрез минуту, однако, Аполлон Аполлонович совершенно оправился, помолодел, побелел: крепко он тряхнул Морковину руку и пошел, как палка прямой, в грязноватую, осеннюю муть, напоминая профилем мумию фараона Рамзеса Второго». Так или иначе, сопоставление «нищего Рамзеса» из «ЕМ» с могущественным фараоном Рамзесом (Вторым или Третьим, прославившимся своими неисчислимыми богатствами) — контрастно. «Фивы — древний город Верхнего Египта (греч. Thebe, егип. Уезет или Нет, библ. Но), на берегу Нила, стовратные Ф., несколько раз столица египетского царства (2400–2000 и 1660–1090), 84 до Р.–Хр. разрушен вследствие восстания» («Словарь Брокгауза и Ефрона»). Ср. о «фиванском сфинксе» фр. № 40 и комм. к нему. О мотиве страха ср. фр. № 211 и комм. к нему. О заразных болезнях ср. фр. № 192 и комм. к нему. О холерных эпидемиях в Петербурге ср. комм. к фр. № 5 и 81. О чечевичной каше с маслом и луком — любимом кушанье древних египтян см., например, в «Истории» Геродота. Подсказку относительно фольклорного происхождения выражения «шейки — на копейку» находим в «Словаре В. И. Даля»: «Алеша три гроша, шейка копейка, алтын голова, по три денежки нога: вот ему и вся цена». Ср. также в пропущенной главе «Капитанской дочки» Пушкина: «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка». «Девичья шейка» (которую в комментируемом отрывке собирается кусать комар) — один из штампов русской лирической поэзии. Ср., например, в ст-нии Фета «На балконе золоченом…»: «Но туда в дыханьи утра / Ходит друг моей мечты — / Дева с шейкой перламутра — / Поливать свои цветы». Финальные реплики комментируемого фрагмента отсылают к следующему месту из «Двойника» Достоевского: Господин на дрожках был Андрей Филиппович, начальник отделения в том служебном месте, в котором числился и господин Голядкин в качестве помощника своего столоначальника. Господин Голядкин, видя, что Андрей Филиппович узнал его совершенно, что глядит во все глаза и что спрятаться никак невозможно, покраснел до ушей. «Поклониться иль нет? Отозваться иль нет? Признаться иль нет? — думал в неописанной тоске наш герой, — или прикинуться, что не я, а кто-нибудь другой, разительно схожий со мною, и смотреть как ни в чем не бывало? Именно не я, не я, да и только! — говорил господин Голядкин, снимая шляпу пред Андреем Филипповичем и не сводя с него глаз. — Я, я ничего, — шептал он через силу, — я совсем ничего, это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я, не я, да и только» <…> Скрываться было бы глупо. Я вот таким-то образом и сделаю вид, что я ничего, а что так, мимоездом <…> Сверх того, этот взгляд вполне выражал независимость господина Голядкина, то есть говорил ясно, что господин Голядкин совсем ничего, что он сам по себе, как и все, и что его изба во всяком случае с краю. <…> «Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты? Ведь ты нуль, более ничего. Ведь у тебя нет ни гроша за душою».(ср. также фр. № 194). Трижды повторенный в комментируемом фрагменте глагол «иЗВиНяюсь» имитирует жужжание «комарика», который «ЗВеНел». Ср. также в позднейшем ст-нии О. М. «Еще далеко мне до патриарха…»(1931): «Еще меня ругают за глаза / На языке трамвайных перебранок, / В котором нет ни смысла, ни аза: / Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь, — / Но в глубине ничуть не изменяюсь…» (перекличка подмечена в: Тарановский: 48–49; см. также: Гаспаров Б. М. «Извиняюсь» // Культура русского модернизма. Статьи, эссе и публикации. В приношение В. Ф. Маркову. М., 1993. С. 109–120). Как представляется, в финале фрагмента О. М. сознательно оставляет возможность двоякого ударения в слове «заплачу»: «заплáчу» или «заплачý». № 197. Чтоб успокоиться, он обратился к одному неписаному Очередное появление героя повести в тексте влечет за собой обострение темы навсегда уходящих, забываемых мелочей. Ср. в черновиках «ЕМ»: Парнок искал защиты у [неловкого] непечатного домашнего словаря. Они всегда [помогали] приходили ему на язык в минуты величайших сиротств и растерянности. Он [давно] даже составил в уме нечто вроде списочка-реестрика этих обреченных и <1 нрзб> слов. <…> [и они щекотали]. Прошлое стало потрясающе реальным и щекотало ноздри, как партия свежих кяхтинских чаев. А если не хватает своего прошлого — а кому его хватает? — то нужно призанять. Где? У кого? Не все ли равно. Бегаешь, как шальной, как очумелый (2: 578).Также ср. фр. № 18: «Вначале был верстак и карта полушарий Ильина. Парнок черпал в ней утешение. Его успокаивала нервущаяся холщовая бумага». Слово «реестрик» встречается, например, в «Мертвых душах» Гоголя: «— Ты, пожалуйста, их перечти, — сказал Чичиков, — и сделай подробный реестрик всех поименно. <…> Да, ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев?» Ср. еще, например, в «Идиоте» Достоевского: «Я тебе реестрик сама напишу, какие тебе книги перво-наперво надо прочесть; хочешь иль нет?»; и в «Иге войны» (1916) Л. Андреева: «Правда, очень интересно было бы составить реестрик всему, что я имею и добыл трудом всей жизни, очень интересно и поучительно». О булочках-подковах ср. в мемуарной книге М. Добужинского «Петербург моего детства»: «Наши ежедневные прогулки имели иногда маленькую цель — чаще всего мы ходили в булочную Филиппова, на угол Невского и Троицкой, купить мою любимую слоеную булку, подковку с маком или тмином и солью или же калач (у него под клапаном я любил находить белую муку, и ручка его аппетитно хрустела)». Слово «фрамуга» — польского происхождения (о «польских» мотивах «ЕМ» ср. фр. № 1 и др.). Определение этого слова см., например, в очерке С. Кржижановского «Московские вывески» (1924): «…фрамуга, то есть расчлененная деревянными рамками на ряд квадратов верхняя полоса окна». Существительное «фрамуга» отнюдь не исчезло из бытового словаря ХХ в. Ср., например, в «Лолите» (1967) Набокова: «…или страшные, таинственные, вкрадчивые слова “травма”, “травматический факт” и “фрамуга”». А вот у русских писателей XIX столетия слово «фрамуга» не встречается. О детских воспоминаниях О. М., связанных с форточкой, см. также фр. № 129: «Туда нельзя — там форточка, — шептали мать и бабушка». «Кяхтинский чай — китайский, идущий на Кяхту и гужем в Россию; заграницей называют его русским, для отличия от кантонского, идущего морем в Европу» («Словарь В. И. Даля»). Ср. в комментируемом фрагменте и в позднейшем «Путешествии в Армению» (1932) О. М.: ««Был пресный кипяток в жестяном чайнике, и вдруг в него бросили щепоточку чудного черного чая. Так было у меня с армянским языком»» (3: 206). Во фр. № 74 «ноздри разъяренной матроны» «щекотал» запах кофе. Ср. также в театральном очерке О. М. «“Гротеск”» (1922) о прошлом (как и в нашем фрагменте): «Когда входишь в маленькую, уютную теплую каюту “Гротеска”, сразу начинают щекотать ноздри воспоминания, такой тонкий приятный запах прошлого» (2: 243). Возможно, «техника» воскресения прошлого через детские словечки и метафорический запах была позаимствована О. М. у Пруста. Ср. знаменитый пассаж о бисквите тети Леонии в прустовском романе «В сторону Свана»: И вдруг воспоминание всплыло передо мной. Вкус этот был вкусом кусочка мадлены, которым по воскресным утрам в Комбре <…> угощала меня тетя Леония, предварительно намочив его в чае или в настойке из липового цвета, когда я приходил в ее комнату поздороваться с нею. Вид маленькой мадлены не вызвал во мне никаких воспоминаний, прежде чем я не отведал ее; может быть, оттого, что с тех пор я часто видел эти пирожные на полках кондитерских, не пробуя их, так что их образ перестал вызывать у меня далекие дни Комбре и ассоциировался с другими, более свежими впечатлениями; или, может быть, оттого, что из этих так давно уже заброшенных воспоминаний ничто больше не оживало у меня, все они распались; формы — в том числе раковинки пирожных, такие ярко чувственные, в строгих и богомольных складочках, — уничтожились или же, усыпленные, утратили действенную силу, которая позволила бы им проникнуть в сознание. Но, когда от давнего прошлого ничего уже не осталось, после смерти живых существ, после разрушения вещей, одни только, более хрупкие, но более живучие, более невещественные, более стойкие, более верные, запахи и вкусы долго еще продолжают, словно души, напоминать о себе, ожидать, надеяться, продолжают, среди развалин всего прочего, нести, не изнемогая под его тяжестью, на своей едва ощутимой капельке, огромное здание воспоминания (цитируем по переводу А. Франковского, впервые изданному в 1927 г.).Ср. с интерпретацией одного из эпизодов этого романа Пруста в заметке О. М. «Веер герцогини» 1929 г. (2: 498). Восстановление прошлого из всеми забытых мелочей — такую цель себе ставили и автор серии романов «В поисках утраченного времени», и О. М. как автор «ЕМ». № 198. По снежному полю ехали кареты. Над полем Весь эпизод с путешествием в каретах (фр. № 198–202) построен на автореминисценциях и развивает тему изгнаннической судьбы еврейского народа, которую повествователь «ЕМ» опасается разделить. Речь в эпизоде вновь идет не о герое, а о повествователе — о его сне (ср. фр. № 202 и комм. к нему): повествователь, «для которого мороз оборачивался “эфиром простуды”, а холод был “чудесным гостем дифтеритных пространств”, то ли видит во сне, что заболевает, то ли, заболев, видит сон из детства» (Гервер: 180). Ср. с описанием едущих «таратаек» с финскими «старухами в черных косынках и в суконных юбках» во фр. № 164. О страшных снах ср. в ст-нии О. М. «Концерт на вокзале» (1921): «Я опоздал. Мне страшно. Это сон»; и в его позднейшем ст-нии «На высоком перевале…» (1931): «Мы со смертью пировали — / Было страшно, как во сне». В черновике к повести О. М. опробовал такой вариант текста комментируемого фрагмента: «По снежному полю ехали вразброд[, без дороги,] кареты. Над полем низко нависло суконно-полицейское небо, скупо [просеивая] [проливая] отмеривая желтый и почему-то позорный свет» (2: 578). О «низком суконно-потолочном небе» ср. фр. № 25 и комм. к нему. До 1866 г. сукно, из которого шилась в России верхняя одежда чинов полиции, было светло-серого цвета. После проведения полицейской реформы, разделяющей города на полицейские участки, шинели городовых стали шить из черного сукна. Разнообразные оттенки небесно-серого цвета встречаем в ст-ниях О. М. «Слух чуткий парус напрягает…» (1910): «Я вижу месяц бездыханный / И небо мертвенней холста…»; «Я вижу каменное небо…» (1910); «Воздух пасмурный влажен и гулок…» (1911): «Небо тусклое с отсветом странным…»; и «Казино» (1912): «Я не поклонник радости предвзятой, / Подчас природа — серое пятно…» Желтый цвет в комментируемом отрывке расшифровывается как еврейский. Ср. в черновике к «ЕМ», уже цитировавшемся нами (в комм. к фр. № 110): «Предки Парнока — испанские евреи ходили в остроконечных желтых колпаках — знак позорного отличия для обитателей гетто… Не от них ли он унаследовал пристрастие ко всему лимонному и желтому?» Ср. также с началом ст-ния О. М. 1920 г.: «Вернись в смесительное лоно, / Откуда, Лия, ты пришла, / За то, что солнцу Илиона / Ты желтый сумрак предпочла»; и в его ст-нии «Среди священников левитом молодым…» (1917): «Ночь иудейская сгущалася над ним, / И храм разрушенный угрюмо созидался. / Он говорил: “Небес тревожна желтизна. / Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи!”» В словосочетании «позорный свет», по-видимому, обыгрывается идиома «выставить в позорном (дурном) свете». Ср. только что приведенный фрагмент черновика к повести, а также «позорные» рандеву Парнока во фр. № 131. О прикреплении к «чужой семье» ср. в дневнике Надсона, читавшемся будущим автором «ЕМ», по его собственному признанию, очень внимательно (2: 357): «Когда во мне, ребенке, страдало оскорбленное чувство справедливости, и я, один, беззащитный, в чужой семье, горько и беспомощно плакал, мне говорили: “Опять начинается жидовская комедия”, — с нечеловеческой жестокостью, оскорбляя во мне память отца (который, хотя родился православным, но происходил из еврейской семьи)». Ср. также в романе Достоевского «Братья Карамазовы»: «Впрочем, о старшем, Иване, сообщу лишь то, что он рос каким-то угрюмым и закрывшимся сам в себе отроком, далеко не робким, но как бы еще с десяти лет проникнувшим в то, что растут они все-таки в чужой семье и на чужих милостях». Ср. и у самого О. М. в «Шуме времени» о родственнике Юлии Матвеиче Розентале: «……своей семьи у него не было, и нашу он выбрал для своей деятельности как чрезвычайно трудную и запутанную. <…> Бездетный, беспомощно-ластоногий Бисмарк чужой семьи, Юлий Матвеич внушал мне глубокое сострадание. <…> Он умер, как бальзаковский старик, почти выгнанный на улицу хитрой и крепкой гостинодворской семьей, куда перенес под старость свою деятельность домашнего Бисмарка и позволил прибрать себя к рукам» (2: 373, 374). Еще ср. с обобщением в позднейшем ст-нии О. М. «Чарли Чаплин» (1937): «Как-то мы живем неладно все — / Чужие, чужие». О «русских сотенных с их зимним хрустом» см. фр. № 24 и комм. к нему. Ср. также в позднейшем ст-нии О. М. «С миром державным я был лишь ребячески связан…» (1931), где (как в комментируемом фрагменте) объединяются мотивы детства, зимы, цыганки, «хруста сторублевого» и бобровой шубы (ср. фр. № 200). Два финальных абзаца комментируемого фрагмента и целый ряд мотивов, которые встретятся во сне повествователя далее, перекликаются со ст-нием О. М. 1925 г.: «Сегодня ночью, не солгу, / По пояс в тающем снегу / Я шел с чужого полустанка. / Гляжу — изба, вошел в сенцы, / Чай с солью пили чернецы, / И с ними балует цыганка… / У изголовья вновь и вновь / Цыганка вскидывает бровь, / И разговор ее был жалок: / Она сидела до зари / И говорила: — Подари / Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок». Употребленное в последней строфе этого ст-ния словосочетание «холщовый сумрак» перекликается с «суконно-полицейским небом» из нашего фрагмента. Ср. также «щемящую тоску» из комментируемого отрывка со строками из ст-ния О. М. «Я вздрагиваю от холода…» (1912): «Так вот она — настоящая / С таинственным миром связь! / Какая тоска щемящая, / Какая беда стряслась!» Город с названием Малинов фигурирует в «Записках одного молодого человека» Герцена (главы «Годы странствования» и «Патриархальные нравы города Малинова»; ср.: Ronen: 287). Очевидны многочисленные переклички фрагмента о Малинове в «ЕМ» с описаниями странствований молодого человека у Герцена: Но скучна будет илиада человека обыкновенного, ничего не совершившего, и жизнь наша течет теперь по такому прозаическому, гладко скошенному полю, так исполнена благоразумия и осторожности etc., etc. <…> Мы расстались с молодым человеком у Драгомиловского моста на Москве-реке, а встречаемся на берегу Оки-реки, да притом вовсе без моста. Тогда молодой человек шел в университет, а теперь едет в город Малинов, худший город в мире, ибо ничего нельзя хуже представить для города, как совершенное несуществование его. <…> …с каким-то тяжело-смутным, дурно-неясным чувством проскакал я 250 верст. Было начало апреля. Ока разлилась широко и величественно, лед только что прошел. На большой паром поставили мою коляску, бричку какого-то конного офицера, ехавшего получать богатое наследство, и коробочку на колесах Ревельского купца в ваточном халате, сверх которого рисовалась шинель waterproof. Мы ехали вместе третью станцию, и я рад был встрече с людьми, хотя, в сущности, радоваться было нечему. <…> …неопределенные чувства, тяготившие грудь, вдруг стали проясняться; грусть острая, жгучая развивалась и захватывала душу. <…> Тщетно искал я в ваших вселенских путешествиях, в которых описан весь круг света, чего-нибудь о Малинове. Ясно, что Малинов лежит не в круге света, в сторону от него (оттого там вечные сумерки). Я не видал всего круга света и, будто в пику вам и себе, видел один Малинов.В примечаниях к своему произведению Герцен ссылается на повесть Даля «Бедовик», действие которой происходит «в одном из губернских городов наших, положим хоть в Малинове» (ср.: Ronen: 287). У главного героя повести Евсея Стахеевича «остался теперь там один только дом, в котором он был дома, а именно: собственное его жилище; семейство, к которому он было приютился и привязался, оставило Малинов навсегда уже за несколько перед этим времени». Возможно, О. М. намекает также на город Калинов из «Грозы» Островского. Еще ср. в позднейшем ст-нии О. М. «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933): «Что ни казнь у него — то малина». Важную роль в комментируемом фрагменте играют фонетические сцепления: ПОЛЕм — СУКОннО-ПОЛицЕйСкОе — СКУПО. № 199. Старуха, роясь в полосатом узле, вынимала Ср. в черновике к «ЕМ»: «Обшарпанные свадебные кареты ползли все дальше, вихляя, как контрабасные футляры. В них молились, пели и плакали, прижимая к груди сухие поленья и фотографические аппараты, щелкунчика и пустые клетки» (2: 578). Ср. в ст-нии Блока «На железной дороге» (1910) о вагонах: «В зеленых плакали и пели». Упоминание о «щелкунчике», вероятно, должно было добавить в комментируемый фрагмент гофмановского колорита, а словосочетание «пустые клетки», возможно, содержит ироническую отсылку к ст-нию О. М. 1912 г.: «Образ твой, мучительный и зыбкий, / Я не мог в тумане осязать. / “Господи!” — сказал я по ошибке, / Сам того не думая сказать. / Божье имя, как большая птица, / вылетело из моей груди. / Впереди густой туман клубится, / И пустая клетка позади». О еврейском столовом серебре см. фр. № 160 и комм. к нему. О «полотне» как свидетельстве благополучия ср. в ст-нии О. М. «Египтянин» (1914): «Тяжелым жерновом мучнистое зерно / Приказано смолоть служанке низкорослой, / Священникам налог исправно будет послан, / Составлен протокол на хлеб и полотно». См. также комм. к фр. № 57 («Есть темная, с детства идущая, геральдика нравственных понятий: шварк раздираемого полотна может означать честность»). Эпитет «бархатные» дважды повторяется при описании синагоги в «Шуме времени»: «Бархатные береты с помпонами, изнуренные служки и певчие, гроздья семисвечников, высокие бархатные камилавки» (2: 361). Содержимое старухиного узла в соседстве со свадебными каретами наводит на мысль о приданом. Ср., например, у Чехова в «Руководстве для желающих жениться»: Не моги жениться без приданого. Жениться без приданого все равно, что мед без ложки, Шмуль без пейсов, сапоги без подошв. Любовь сама по себе, приданое само по себе. Запрашивай сразу 200 000. Ошеломив цифрой, начинай торговаться, ломаться, канителить. Приданое бери обязательно до свадьбы. Не принимай векселей, купонов, акций и каждую сторублевку ощупай, обнюхай и осмотри на свет, ибо нередки случаи, когда родители дают за своими дочерями фальшивые деньги. Кроме денег, выторгуй себе побольше вещей. Жена, даже плохая, должна принести с собою: a) побольше мебели и рояль; b) одну перину на лебяжьем пуху и три одеяла: шелковое, шерстяное и бумажное; c) два меховых салопа, один для праздников, другой для будней; d) побольше чайной, кухонной и обеденной посуды; e) 18 сорочек из лучшего голландского полотна, с отделкой; 6 кофт из такого же полотна с кружевной отделкой; 6 кофт из нансу; 6 пар панталон из того же полотна и столько же пар из английского шифона; 6 юбок из мадаполама с прошивками и обшивками; пеньюар из лучшей батист-виктории; 4 полупеньюара из батист-виктории; 6 пар панталон канифасовых <…> f) вместо платьев, фасон коих скоро меняется, требуй материи в штуках; g) без столового серебра не женись.Ср. также в историческом повествовании Мельникова-Печерского «На горах. Книга первая»: «Татьяна Андревна <…> повела речь о самом нужном, по мнению ее, деле — о приданом. <…> Но чтение о бархатных салопах, о шелковых платьях, о белье голландского полотна, о серебряной посуде и всяком другом домашнем скарбе, заготовленном заботливой матерью ради первого житья-бытья молодых, скользили мимо ушей его». Еще ср. о генерале в водевиле Чехова «Свадьба»: «Не генерал, а малина, Буланже!» О свадебной атмосфере и настроении ср. в позднейшем «Путешествии в Армению» О. М.: «Разлука — младшая сестра смерти. Для того, кто уважает резоны судьбы, — есть в проводах зловеще свадебное оживление» (3: 190). Ср. также в его очерке «Холодное лето» (1923): «Но не ищу следов старины в потрясенном и горючем городе: разве свадьба проедет на четырех извозчиках — жених мрачным именинником, невеста — белым куколем» (2: 309); ср. фр. № 154. О «малиновом рае контрабасов» ср. фр. № 131. Ср. также в черновых набросках к позднейшему «Разговору о Данте» О. М.: «Оркестр — трехчастное тело из струнных, деревянных духовых и медных. Каждая группа гармонически и мелодически независима и хроматична по своей природе. Влияние места, города, путешествия, поездки на партитуру и на состав оркестра. Контрабас, одно время известный в Италии под названием виолоны, не подвергся полному превращению из виолы в скрипку» (3: 402). № 200. Ехал дровяник Абраша Копелянский с грудной В «ВП-17» содержатся сведения об Абраме Осиповиче Копелянском, провизоре, представителе Страхового товарищества «Саламандра», державшем контору по продаже строительных материалов и топлива и проживавшем на ул. Рузовской, д. 9 (С. 336). Слово «дровяник» в значении «торговец дровами» используется, например, у Толстого в «Анне Карениной»: «Дарья же Александровна считала переезд в деревню на лето необходимым для детей, в особенности для девочки, которая не могла поправиться после скарлатины, и, наконец, чтоб избавиться от мелких унижений, мелких долгов дровянику, рыбнику, башмачнику, которые измучали ее». О дровах ср. фр. № 50 и др. Грудная жаба — устаревшее название стенокардии. О тете Иоганне ср. фр. № 193 и комм. к нему. Перечисление «грудной жабы» и «тети Иоганны» в одном ряду создает комический эффект одушевления «грудной жабы», возвращения ей прямого значения. Немая клавиатура (нем. stummes Klavier), аппарат для беззвучной тренировки пальцев пианиста. Представляет собой фортепианную клавиатуру без звуковоспроизводящего механизма. Объем клавиатуры от 2,5 октав и более. Возврат клавиши в исходное положение происходит за счет сопротивления пружины, упирающейся на удлиненный ее конец. О бобровых шубах ср. в позднейшем ст-нии О. М. «С миром державным я был лишь ребячески связан…» (1931): «С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой / Я не стоял под египетским портиком банка…» Также ср. в его очерке «Шуба» (1922): «Есть такие шубы, в них ходили попы и торговые старики, люди спокойные, несуетливые, себе на уме — чужого не возьмет, своего не уступит, шуба что ряса, воротник стеной стоит, сукно тонкое, не лицованное, без возрасту, шуба чистая, просторная, и носить бы ее, даром что с чужого плеча, да не могу привыкнуть, пахнет чем-то нехорошим, сундуком да ладаном, духовным завещанием» (2: 245). «Петух» в программном ст-нии О. М. “Tristia” (1918) определяется как «глашатай новой жизни». Соответственно, «петух, предназначенный резнику», — еще одна зловещая примета сна повествователя «ЕМ». Резник здесь — это специальный человек (шохет), убивающий курицу одним ударом ножа по законам еврейской традиции. № 201. — Поглядите, — воскликнул кто-то, высовываясь в окно, — Во фрагменте неброско нагнетается атмосфера страха и неблагополучия. Ср. его начало с зачином сцены самосуда (фр. № 79): «Зубной врач повесил хобот бормашины и подошел к окну. — Ого-го… Поглядите-ка». О малине на снегу ср. в ст-нии О. М. «1 января 1924»: «Пылает на снегу аптечная малина, / И где-то щелкнул ундервуд. / Спина извозчика и снег на пол-аршина: / Чего тебе еще? Не тронут, не убьют. / <…> / А переулочки коптили керосинкой, / Глотали снег, малину, лед» (перекличка между нашим фрагментом и «1 января 1924» отмечена в: Ronen: 297). Эпитет «бородавчатая» О. М. использует в своем страшном позднейшем ст-нии «Куда мне деться в этом январе?..» (1937): «И в яму, в бородавчатую темь / Скольжу к обледенелой водокачке, / И, спотыкаясь, мертвый воздух ем…» При этом слово «малинник» в русской классической прозе, как правило, связано с темой сладости и домашнего, усадебного уюта. Ср., например, в «Дворянском гнезде» Тургенева: «Вместе с молодежью прошелся он по аллеям: липы немного постарели и выросли в последние восемь лет, тень их стала гуще; зато все кусты поднялись, малинник вошел в силу, орешник совсем заглох, и отовсюду пахло свежим ароматом, лесом, травою, сиренью». Ср. еще у Горького в «Деле Артамоновых» (1924–1925): «Поручив просвирне Ерданской узнать подробно, кто этот человек, горожане разошлись, под звон колоколов, к пирогам, приглашенные Помяловым на вечерний чай в малинник к нему», а также в мемуарной книге Гиляровского «Мои скитания» (1927): «Я замер на минуту, затем вскочил со стула <…> и под вопли и крики тетенек выскочил через балкон в сад и убежал в малинник, где досыта наелся душистой малины под крики звавших меня тетенек…» Ср. и в нашем отрывке, где повествователь при виде малинника захлебывается «от радости». В итоге все разрешается «ощущением великой вины и беспорядка», а после — нерадостным посещением надоевшей с раннего детства «варшавской комнаты» (О. М. провел в Варшаве с 1891 г. по 1894 г.), куда «ввели» и где «заставили пить воду и есть лук» (в наказание за развязавшийся шнурок?) О чувстве вины ср. фр. № 7 («Чем загладить свою вину?») и комм. к нему. Об отношении О. М. к беспорядку ср. в мемуарах А. Лурье: «…он боялся проявления какого бы то ни было беспорядка. Хаос приводил его в ужас. Мандельштам защищался от хаоса бытом, живя исключительно в бытовых проявлениях жизни и цепляясь за них». Ср. также о «хаосе иудейском» в «Шуме времени»: «Иудейский хаос пробивался во все щели каменной петербургской квартиры угрозой разрушенья…» (2: 354). И там же в главе о семье Синани: «Порядок домоводства, несмотря на отсутствие хозяйки, был строг и прост, как в купеческой семье» (2: 379; в купеческой семье самого О. М. сходного порядка не наблюдалось). № 202. Я то и дело нагибался, чтоб завязать башмак двойным О тщетной попытке лирического «я» устранить неисправность в одежде и, тем самым, навести символический порядок ср. в ст-нии О. М. «1 января 1924»: «Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом, / Все силюсь полость застегнуть. / И яблоком хрустит саней морозный звук, / Не поддается петелька тугая, / Все время валится из рук» (перекличка между нашим фрагментом и ст-нием «1 января 1924» отмечена в: Ronen: 287). О времени, текущем во сне вспять, ср. в черновике к «ЕМ»: «…я понял, что все мы живем обратно, как всегда бывает во сне…» (2: 579). Трагическая тема обратного течения времени развивается во многих произведениях О. М. Ср., например, в набросках к его статье «Скрябин и христианство» (1915): «Время может идти обратно: весь ход новейшей истории, которая со страшной силой повернула от христианства к буддизму и теософии, свидетельствует об этом» (1: 201); в «Шуме времени»: «Вспоминать — идти одному обратно по руслу высохшей реки!» (2: 387); в позднейшей «Четвертой прозе»: «Оттого-то мне и годы впрок не идут — другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот — обратное течение времени. Я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виновности не вылезаю» (3: 177). Ср. также в ст-ниях О. М. “Polacy!” (1914): «Поляки! Я не вижу смысла / В безумном подвиге стрелков: / Иль ворон заклюет орлов? / Иль потечет обратно Висла?»; и «Ламарк» (1932): «Если все живое лишь помарка / За короткий выморочный день, / На подвижной лестнице Ламарка / Я займу последнюю ступень». Ср.: Isenberg: 100–106. О Таврическом саде, располагающемся в центральной части Петербурга между Кирочной, Потемкинской, Шпалерной и Таврической улицами, ср. комм. к фр. № 42. Таврический сад в комментируемом фрагменте предстает символом «стройного» имперского Петербурга, куда повествователь «бежит», разметав «чужие перины», — символ «хаоса иудейского». Ср. ключ к нашему отрывку в «Шуме времени»: «Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался — и бежал, всегда бежал» (2: 354). Ср. о «чужой семье» во фр. № 198. О чужих перинах, низком небе и снеге ср. также в девятой главе романа в стихах Пастернака «Спекторский», впервые опубликованной в 1929 г.: «В глазах, уставших от чужих перин, / Блеснуло что-то яркое, как яхонт, / Он увидал мариин лабиринт. / “А ну-ка, — быстро молвил он, — коллега, / Вот список. Жарьте по инвентарю. / А я… А я неравнодушен к снегу: / Пробегаюсь чуть-чуть и покурю”. / Был воздух тих, но если б веткой хрустнуть, / Он снежным вихрем бросился б в галоп, / Как эскимос, нависшей тучей сплюснут, / Был небосвод лиловый низколоб». Любимая детская игрушка-подсвечник идеально вписывается в ряд причудливых пристрастий О. М. ребенка, описанных в его «Шуме времени» и «Путешествии в Армению»: от коллекции гвоздей (ср. комм. к фр. № 51) до шишек, предпочитаемых ягодам и грибам (ср. комм. к фр. № 63). Упоминание в финале комментируемого фрагмента о метафорической «подвенечной фате» завершает тему еврейской свадьбы, красной нитью проходящей через фр. «ЕМ» № 198–202. Ср., например, с работами Марка Шагала «Еврейская свадьба» (1910-е) и «Венчание» (1918). Однако в эпизод о поездке в Малинов мотив свадьбы был, вероятно, перенесен из спектакля Соломона Михоэлса «200 тысяч» 1923 г. по Шолом-Алейхему. Ср. в заметке О. М. «Михоэльс» (1926) об этой постановке: Какой счастливый Грановский! Достаточно ему собрать двух-трех синагогальных служек с кантором, позвать свата-шатхена, поймать на улице пожилого комиссионера — и вот уже готова постановка, и даже Альтмана, в сущности, не надо <…> Скрипки подыгрывают свадебному танцу. Михоэльс подходит к рампе и, крадучись с осторожными движениями фавна, прислушивается к минорной музыке. Это фавн, попавший на еврейскую свадьбу, в нерешительности, еще не охмелевший, но уже раздраженный кошачьей музыкой еврейского менуэта. Эта минута нерешительности, быть может, выразительнее всей дальнейшей пляски. Дробь на месте, и вот уже пришло опьянение, легкое опьянение от двух-трех глотков изюмного вина, но этого уже достаточно, чтобы закружилась голова еврея: еврейский Дионис не требователен и сразу дарит весельем. Во время пляски лицо Михоэльса принимает выражение мудрой усталости и грустного восторга, — как бы маска еврейского народа, приближающаяся к античности, почти неотличимая от нее (2: 447). № 203. Страшно подумать, что наша жизнь — это повесть В комментируемом фрагменте О. М. как бы предостерегает себя самого от опасности, усилившейся к финалу его повести, где фабула вконец забуксовала, с трудом пробиваясь сквозь толщу отступлений. Эта опасность будет преодолена в четырех завершающих «ЕМ» абзацах о путешествии ротмистра Кржижановского в Москву (фр. № 215–218). Уподобление жизни — повести см., например, в ст-нии Пастернака «Зима» (1913): «Значит — в “Море волнуется”? B повесть, / Завивающуюся жгутом, / Где вступают в черед, не готовясь? / Значит — в жизнь? Значит — в повесть о том, / Как нечаян конец?..» О фабуле как главной пружине великой европейской литературы XIX в. ср. в статье О. М. «Конец романа» (1922): На протяжении огромного промежутка времени форма романа совершенствовалась и крепла, как искусство заинтересовывать судьбой отдельных лиц, причем это искусство совершенствуется в двух направлениях: композиционная техника превращает биографию в фабулу, то есть диалектически осмысленное повествование. <…> Дальнейшая судьба романа будет не чем иным, как историей распыления биографии как формы личного существования, даже больше чем распыления — катастрофической гибелью биографии. <…> Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой стороны, немыслим без интереса к отдельной человеческой судьбе, фабуле и всему, что ей сопутствует <…> Современный роман сразу лишился и фабулы, то есть действующей в принадлежащем ей времени личности, и психологии, так как она не обосновывает уже никаких действий (2: 272, 274–275).Ср. также в заметке О. М. «Литературная Москва. Рождение фабулы» (1922): Как только исчезла фабула, на смену явился быт. <…> Быт — это мертвая фабула, это гниющий сюжет, это каторжная тачка, которую волочит за собою психология, потому что надо же ей на что-нибудь опереться, хотя бы на мертвую фабулу, если нет живой. <…> Нынешние русские прозаики, как серапионовцы и Пильняк, такие же психологи, как их предшественники до революции и Андрея Белого. У них нет фабулы <…> Фабулы, то есть большого повествовательного дыхания, нет и в помине…» (2: 262–263).Точка зрения О. М. на роль фабулы в литературном произведении была во многом близка взглядам Томашевского, Тынянова и Шкловского. Ср., например, статью Тынянова «О сюжете и фабуле в кино», впервые опубликованную в 1926 г., где, между прочим, отыскивается фрагмент, перекликающийся с комментируемым: «Фабульная схема гоголевского “Носа” до неприличия напоминает бред сумасшедшего» (Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кинo. М., 1977. С. 324). О «пустоте и зиянии» ср. фр. № 190 и комм. к нему. Ср. также три начальные строфы ст-ния О. М. 1910 г.: «В изголовьи черное распятье, / B сердце жар и в мыслях пустота — / И ложится тонкое проклятье — / Пыльный след — на дерево креста. / Ах, зачем на стеклах дым морозный / Так похож на мозаичный сон! / Ах, зачем молчанья голос грозный / Безнадежной негой растворен! / И слова евангельской латыни / Прозвучали, как морской прибой; / И волной нахлынувшей святыни / Поднят был корабль безумный мой…» Стекло в комментируемом фрагменте взято О. М. как «обманчивая» субстанция — хрупкая, прозрачная, острая по краям и отражающая. Ср. в его ст-ниях «Веницейской жизни, мрачной и бесплодной…» (1920): «В спальнях тают горы / Голубого дряхлого стекла»; «Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть…» (1933): «Ведь все равно ты не сумеешь стекло зубами укусить…»; «Твоим узким плечам под бичами гореть…» (1934): «Твоим нежным ногам по стеклу босиком, / По стеклу босиком, да кровавым песком». Ср. также в повести Пильняка «Заволочье» (1927): «И скоро стало понятно, что ноги поднимать трудно, трудно слышать, что говорит сосед, — что в голову вникает стеклянная, прозрачная, перебессонная запутанность и пустота, и кажется, что лоб в жару, и мысли набегают, путаются, петляют…» О «трамвайном лепете жизни» ср. фр. № 51 и комм. к нему. Ср. также в ст-нии Анненского «Будильник»: «Цепляясь за гвоздочки, / Весь из бессвязных фраз, / Напрасно ищет точки / Томительный рассказ, / О чьем-то недоборе / Косноязычный бред… / Докучный лепет горя / Ненаступивших лет…» Об инфлюэнце ср. фр. № 62 и комм. к нему. О бреде, порождаемом заболеваниями, спровоцированными столичным климатом, ср. во многих произведениях, составляющих «петербургский текст»: Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата, болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать. <…> …он находился все время в бреду и жару. <…> Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели (Гоголь, «Шинель»); № 204. Розовоперстая Аврора обломала свои цветные Ср. в черновиках «ЕМ»: «Между тем во всем решительно мне чудится задаток любимого прозаического бреда. …даже в простом колесе. Обратите внимание на его…» (2: 579). О колесе ср. комм. к фр. № 206. Также ср. в зачине первого тома «Мертвых душ» Гоголя: «“Вишь ты”, сказал один другому, “вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?” — “Доедет”, отвечал другой. “А в Казань-то, я думаю, не доедет?” — “В Казань не доедет”, отвечал другой. — Этим разговор и кончился». Еще ср. с финальной строкой ст-ния О. М. «На каменных отрогах Пиэрии…» (1919) об античном пейзаже, плодотворном для зарождения лирики: «И колесо вращается легко». К. Ф. Тарановским комментируемый фрагмент «ЕМ» (и несколько последующих) трактовался так: Все яркие образы в этом отрывке связаны с процессом поэтического творчества. Так, обломанные «цветные карандаши» (= орудия производства), валяющиеся как птенчики с пустыми разинутыми клювами, вторят грифелям и птичьей образности «Грифельной оды»: <«>И ночь-коршунница несет / Горящий мел и грифель кормит. / <…> / На изумленной крутизне / Я слышу грифельные визги. / Твои ли, память, голоса / Учительствуют, ночь ломая, / Бросая грифели лесам, / Из птичьих клювов вырывая?<»> (Тарановский: 54).Ср. в «Грифельной оде» и далее: «С иконоборческой доски / Стереть дневные впечатленья / И, как птенца, стряхнуть с руки / Уже прозрачные виденья! / <…> / Ломаю ночь, горящий мел, / Для твердой записи мгновенной». Эпитет «розовоперстая» к богине утренней зари Авроре (у греков Эос) относят традиционно. В «Одиссее» Гомера «розоперстая (“Rododaktylos”) Эос» появляется перед возвращением Одиссея домой, когда он покидает нимфу Калипсо: «Рано рожденная вышла из тьмы розоперстая Эос» (перевод Вересаева). Ср. также в рассказе А. Н. Толстого «Древний путь» (1927): «Над Элладой поднималась розовоперстая заря истории». Еще ср. с уподоблением из ст-ния самого О. М. «В разноголосице девического хора…» (1916): «И пятиглавые московские соборы / С их итальянскою и русскою душой / Напоминают мне явление Авроры…» Об «остро отточенных карандашах» на Дворцовой площади Петербурга ср. фр. № 111. Ср. также в позднейшей «Четвертой прозе» (1930) О. М.: «Зато карандашей у меня много и все краденые и разноцветные. Их можно точить бритвочкой жилет» (3: 171). Одним из подтекстов для комментируемого фрагмента, вероятно, послужила следующая сцена из «Петербурга» Андрея Белого: Аполлон Аполлонович ничего не ответил, но снова выдвинул ящик, вынул дюжину карандашиков (очень-очень дешевых), взял пару их в пальцы — и захрустела в пальцахсенатора карандашная палочка. Аполлон Аполлонович иногда выражал свою душевную муку этим способом: ломалкарандашные пачки, для этого случая тщательно содержимые в ящике под литерой «бе». Но, хрустя карандашными пачками, все же он достойно сумел сохранить беспристрастный свой вид <…> …когда Семеныч ушел, Аполлон Аполлонович, бросив в корзинку обломки карандашей, откинулся головой прямо к спинке черного кресла. «Птенцом» О. М. назвал Андрея Белого в посвященном его памяти ст-нии «Голубые глаза и горящая лобная кость…» (1934): «Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец, / Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец…» И в одном из вариантов ст-ния о нем же «10 января 1934»: «Он, кажется, дичился умиранья / Застенчивостью славной новичка / Иль звука первенца в блистательном собраньи, / Что льется внутрь — еще птенец смычка». Ср. также в черновиках к «Разговору о Данте» О. М., где автор «Божественной комедии» характеризуется как «важный бородатый птенец» (3: 406). В финале комментируемого фрагмента обыгрываются два значения эпитета «прозаический» — 1. взятый из прозы (vs. поэзия); 2. обыденный. С одной стороны, под «любимым прозаическим бредом» может подразумеваться вся проза создателей «петербургского текста»; определение «прозаический бред» в комментируемом фрагменте перекликается (отчасти полемически) со следующими строками пушкинского «Евгения Онегина»: «Любви безумную тревогу / Я безотрадно испытал. / Блажен, кто с нею сочетал / Горячку рифм: он тем удвоил / Поэзии священный бред, Петрарке шествуя вослед…» С другой стороны, ключ к заключительным строкам комментируемого фрагмента «ЕМ» отыскивается в известном описании петербургского утра в «Подростке» Достоевского, где используется второе значение эпитета «прозаический»: «…мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы самое прозаическое на всем земном шаре, — чуть ли не самым фантастическим в мире» (ср. комм. № 195, в котором цитируется продолжение этого отрывка из «Подростка»). № 205. Знакомо ли вам это состояние? Когда у всех В комментируемом фрагменте развивается аналогия между творческим процессом и болезненным, лихорадочным состоянием человека, в которое метонимически вовлекаются все окружающие его предметы. Для передачи этого состояния автор «ЕМ» воспользовался словарем и приемами раннего Маяковского. У О. М. — вещи «радостно возбуждены и больны»; у Маяковского в «Облаке в штанах» (1915) — он сам «прекрасно болен». Ср. также многочисленные у Маяковского развернутые словесные картины безумства и «бунта вещей» (первоначальное заглавие его трагедии «Владимир Маяковский» (1913), где описывается, между прочим, как «заскачут трамваи» и «мир зашевéлится в радостном гриме», и где «музыкант не может вытащить рук / из белых зубов разъяренных клавиш»). В черновике к «ЕМ» перечень уличных реалий был несколько иным, чем в итоговом варианте: «…рогатки на улице, еврейские похороны с черн‹ыми›(?) гробами, рояли, толпящиеся в депо, как умно<е> бесполое стадо, рожденное в мире сонатных беспамятств и кипяченой воды…» (2: 579). О теме похорон в «ЕМ» ср. комм. к фр. № 2, 86 и др. Ср. также в «Анне Карениной» Толстого описание состояния героини во время родов: «Доктор и доктора говорили, что это была родильная горячка, в которой из ста было 99, что кончится смертью. Весь день был жар, бред и беспамятство. К полночи больная лежала без чувств и почти без пульса». Уподобление творчества болезни находим, например, в ст-нии О. М. «Чуть мерцает призрачная сцена…» (1920): «Театральный легкий жар». «Рогатка — продольный брус со вдолбленными накрест палисадинами, для преграды пути <…> Околица, окоп, огорожа вокруг города, с проездами. Перенять стадо за рогатками — за заставой, за внешними городскими воротами» («Словарь В. И. Даля»). О «шелушении афиш» ср. в ст-нии О. М. «Я не увижу знаменитой “Федры”…» (1915): «Вновь шелестят истлевшие афиши…» О «шелушении» как об одном из проявлений заразной болезни ср. комм. к фр. № 100. Кроме прямого значения в комментируемом фрагменте словом «шелушение» характеризуется болезненный творческий процесс. Ср. в ст-нии О. М. «1 января 1924»: «А переулочки коптили керосинкой, / Глотали снег, малину, лед. / Все шелушится им советской сонатинкой, / Двадцатый вспоминая год» (перекличка отмечена в: Ronen: 306). О звере-рояле ср. фр. № 120 и комм. к нему. В комментируемом фрагменте это сравнение уточняется: рояли сопоставляются здесь с животными из стада (конями и лошадьми? быками и коровами?). Поскольку форма слова «рояль» допускала и мужское и женское число («моя рояль», «мой рояль»), «стадо» в черновике к комментируемому фрагменту названо «бесполы»м. Под «депо» в данном случае подразумевается склад роялей. Ср., например, в «Открытой книге» (1946) Каверина: «“Депо проката роялей и пианино” — вот как назывался этот дом, в котором я лежала и поправлялась, хотя врач-генерал объявил, что я непременно умру. Я и прежде знала, что в нашем городе существует такое депо. Это была первая вывеска, которую мне удалось самостоятельно прочитать, и я на всю жизнь запомнила большие белые буквы с веселыми хвостиками на ярко-зеленом фоне». О кипяченой воде ср. фр. № 5 и комм. к нему. и смело шагаю, разбив термометры, по заразному лабиринту, обвешанный придаточными предложениями, как веселыми случайными покупками… и летят в подставленный мешок поджаристые жаворонки, наивные, как пластика первых веков христианства, и калач, обыкновенный калач, уже не скрывает от меня, что он задуман пекарем как российская лира из безгласного теста. В черновиках к «ЕМ» весь эпизод № 204–206 завершается автометаописанием: «Тогда, окончательно расхрабрившись, я вплетаю в хоровод вещей и свою нечесаную голову, и Парнока — египетскую марку, и милую головку Анджиолины Бозио» (2: 579). В итоговом варианте ясности, как обычно, была предпочтена метафорическая усложненность — финальный, объясняющий всю цепочку ассоциаций фрагмент был удален. Ср. зачин комментируемого фрагмента с зачином фр. № 171 («Я, признаться, люблю Мервиса…»). Описание обобщенного карантина в нашем отрывке перекликается с изображением конкретного феодосийского карантина 1920 г. из очерка О. М. «Феодосия» (1924): Если пройти всю Итальянскую, за последним комиссионным магазином, минуя заглохшую галерею Гостиного двора, где раньше был ковровый торг, позади французского домика в плюще и с жалюзи <…> дорога забирает вверх к карантинной слободке. <…> Карантинная слободка, лабиринт низеньких мазаных домиков с крошечными окнами, зигзаги переулочков с глиняными заборами в человеческий рост, где натыкаешься то на обмерзшую веревку, то на жесткий кизилевый куст. <…> Идиллия карантина длилась несколько дней. В одной из мазанок у старушки я снял комнату в цену куриного яйца. <…> Пахло хлебом, керосиновым перегаром матовой детской лампы и чистым старческим дыханьем. <…> Если выйти во двор в одну из тех ледяных крымских ночей и прислушаться к звуку шагов на бесснежной глинистой земле, подмерзшей, как наша северная колея в октябре, если нащупать глазом в темноте могильники населенных, но погасивших огни городских холмов, если хлебнуть этого варева притушенной жизни, замешанной на густом собачьем лае и посоленной звездами, — физически ясным становилось ощущение спустившейся на мир чумы, — тридцатилетней войны, с моровой язвой, притушенными огнями, собачьим лаем и страшной тишиной в домах маленьких людей (2: 396–397).Ср. также в «Дорожных жалобах» Пушкина: «Иль чума меня подцепит, / Иль мороз окостенит, / Иль мне в лоб шлагбаум влепит / Непроворный инвалид. / Иль в лесу под нож злодею / Попадуся в стороне / Иль со скуки околею / Где-нибудь в карантине». О «шаге» как синониме творческого акта у О. М. ср. в статье К. Ф. Тарановского (Тарановский: 57), где, в частности, цитируется следующий фрагмент «Разговора о Данте»: Если первое чтение вызывает лишь одышку и здоровую усталость, то запасайся для последующих парой неизносимых швейцарских башмаков с гвоздями. Мне не на шутку приходит в голову вопрос, сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии. “Inferno” и в особенности “Purgatorio” прославляет человеческую походку, размер и ритм шагов, ступню и ее форму. Шаг, сопряженный с дыханьем и насыщенный мыслью, Дант понимает как начало просодии. Для обозначения ходьбы он употребляет множество разнообразных и прелестных оборотов. У Данта философия и поэзия всегда на ходу, всегда на ногах. Даже остановка — разновидность накопленного движения: площадка для разговора создается альпийскими усилиями. Стопа стихов — вдох и выдох — шаг. Шаг — умозаключающий, бодрствующий, силлогизирующий (3: 219–220). О термометре ср. комм. к фр. № 38. Как известно, разбивание термометра чревато опасностью — набитые в градусник шарики ртути испускают ядовитые пары. О заразных заболеваниях ср. комм. к фр. № 100 и № 195. Повествователь в комментируемом фрагменте, «обвешанный придаточными предложениями, как веселыми покупками», похож на «китайца» из фр. № 4, который был обвешан продаваемыми «дамскими сумочками». «Придаточные предложения» — словосочетание из арсенала акмеистов. Ср. в мемуарном очерке Г. Иванова «Осип Мандельштам»: В «Цехе поэтов» существовало правило: всякое мнение о стихах обязательно должно быть мотивировано. На соблюдении этого правила особенно настаивал Мандельштам. Он любил повторять: «Предоставьте барышням пищать: Ах, как мне нравится! Или: Ох, мне совсем не нравится!» Звонок синдика Гумилева, прерывавший оценки «без придаточного предложения», всегда вызывал у Мандельштама одобрение. Не следует при этом забывать, что в первом, «настоящем», «Цехе поэтов», в тщательно отобранном кругу наиболее ярких представителей тогдашних молодых поэтов, «разговор» велся на том культурном уровне, где многое подразумевалось само собой и не требовало пояснений. И тем не менее придаточное предложение считалось необходимым. О «мешке» ср. у К. Ф. Тарановского: …«подставленный мешок», в который падают «поджаристые жаворонки» (законченные отрывки произведений или оформленные образы?), становится частью авторского «поэтического багажа». К образу «поэтического мешка» Мандельштам вернется еще раз в «Разговоре о Данте»: «…вместо того, чтобы взгромоздить свою скульптуру на цоколь, как сделал бы, например, Гюго, Дант обволакивает ее сурдинкой, окутывает сизым сумраком, упрятывает на самое дно туманного звукового мешка» <…> Характерна для Мандельштама и «хлебная образность» в последнем абзаце приведенного отрывка. И «поджаристые жаворонки» (конечно, не птицы, а «сдобные булочки в форме птиц», все же остающиеся причастными птичьей образности второго абзаца) и калач, задуманный пекарем как российская лира из безгласного теста — не что иное, как аналоги художественных произведений и поэтического творчества. Еще в 1922 году Мандельштам развил «хлебную образность» в следующем стихотворении: <«> Как растет хлебов опара, / По началу хороша, / И беснуется от жару Домовитая душа. / Словно хлебные Софии / С херувимского стола / Круглым жаром налитые / Подымают купола. / Чтобы силой или лаской / Чудный выманить припек, / Время — царственный подпасок — / Ловит слово-колобок. / И свое находит место / Черствый пасынок веков — Усыхающий довесок / Прежде вынутых хлебов <»>. Ключ к иносказательному плану этого стихотворения дается поэтом в образе «слова-колобка», восходящем к народной сказке из собрания Афанасьева. Фольклорный колобок-поскребыш (ср. «усыхающий довесок») спасается песенкой («Я по коробу скребен / По сусеку метен» и т. д.) от косого зайца, серого волка и косолапого медведя и попадается в пасть — лисице (Тарановский: 54–55, 57).Тем не менее, «жаворонки» в комментируемом фрагменте «летят». Жаворонков из теста пекли 22 марта, на праздник весеннего равноденствия (Сороки, Сорок мучеников). Птичек раздавали детям, а те произносили заклинание: «Жаворонки, прилетите / Студену зиму унесите. / Жаворонки, прилетите! / Красну весну принесите! / Нам зима-то надоела, / Весь хлеб у нас поела / Нет ни хлеба, ни картошки, / Самовар стоит на окошке, / Чай я выпил, сахар съел, / Самовар на кол одел». Иногда в одну из запеченных птичек клали монетку, тот, кому она доставалась, должен был быть счастливым целый год. Считалось, что в этот день прилетало 40 птиц, и первой среди них был жаворонок. Ср., например, у Гончарова в «Обломове»: «В марте напекли жаворонков, в апреле у него выставили рамы и объявили, что вскрылась Нева и наступила весна». «Первые века христианства», возможно, упомянуты в связи с событиями ок. 320 г., когда мученической смертью погибли 40 воинов (Сорок мучеников) Каппадокийской когорты, отказавшись отречься от Христа. Наивность жаворонков в таком случае символизирует простодушие первых верующих, а также чистоту их веры. Ср. в позднейшем ст-нии О. М. «В лицо морозу я гляжу один…» (1937): «И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен». Но, скорее всего, говоря о наивной пластике «первых веков христианства», О. М. подразумевает религиозную скульптуру и живопись этой эпохи. «Калач (от «коло» — «колесо») — круглый белый хлеб, пшеничный сгибень с дужкой, из жидкого теста» («Словарь Брокгауза и Ефрона»). Ср. о колесе в черновике к фр. № 204. О калаче ср. в ст-нии Некрасова «Вор», цитируемом в комм. к фр. № 81. Выпеченный из «безгласного теста» «калач-лира» представляет собой усложненный вариант метафоры «безгласная лира». Ср., например, в ст-нии Э. Губера «На смерть Пушкина» (1837): «Но пусть над лирою безгласной / Порвется тщетная струна / И не смутит тоской напрасной / Его торжественного сна»; и в ст-нии Вяземского «Смерть жатву жизни косит, косит…» (1841): «Как много уж имен прекрасных / Она отторгла у живых, / И сколько лир висит безгласных / На кипарисах молодых». Ср. также о бублике в позднейшей «Четвертой прозе» (1930) О. М.: «…для меня в бублике ценна дырка. А как же с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка останется» (3: 178). Лира из теста, которую едят поэты, фигурирует в сцене четвертой действия второго пьесы Ростана «Сирано де Бержерак». Ср. также с объяснением А. А. Морозова, который предполагал, что в финале комментируемого фрагмента, возможно, содержится «намек на представление о народе как о “калужском тесте”, обратное представлению о нем как о творящей силе, — проблематика, знакомая со времен спора между западниками и славянофилами» (Морозов: 279). № 207. Ведь Невский в семнадцатом году — это казачья сотня Логическая связь этого фрагмента с предыдущим демонстративно отсутствует: читателю совершенно непонятно, к чему относится причинный союз «ведь», обязанный, по законам русского языка, служить зачином для обоснования непосредственно предшествующей мысли. О подавлении студенческих беспорядков на Невском проспекте казаками в эпоху детства О. М. ср. в «Шуме времени»: Вдруг со стороны Казанской площади раздавался протяжный, все возрастающий вой, что-то вроде несмолкавшего «у» или «ы», переходящий в грозное завывание, все ближе и ближе. Тогда зрители шарахались, и толпу мяли лошадьми. «Казаки — казаки», — проносилось молнией, быстрее, чем летели сами казаки. Собственно «бунт» брали в оцепление и уводили в Михайловский манеж, а Невский пустел, будто его метлой вымели (2: 352).Ср. в мемуарах Д. Засосова и В. Пызина «Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов»: «Для “наведения порядка” в столице и пригородах квартировали казачьи сотни. Число их было увеличено в период революционных событий 1905 года». Впрочем, к началу Февральской революции 1917 г. подавляющее большинство казачьих частей находилось на фронте. В столице были расквартированы 1-й и 4-й Донские казачьи полки, а в императорской резиденции в Царском Селе располагался личный конвой императора в составе 1-й и 2-й Кубанских и 3-й и 4-й Терских лейб-гвардии казачьих сотен. С самых первых дней революции все эти казаки были вовлечены в происходящие события. Так, 23–24 февраля 1917 г. казаки вместе с солдатами гарнизона и полицией охраняли особо важные объекты и разгоняли демонстрантов. Ср., например, в дневнике З. Гиппиус о беспорядках в Петрограде 24 февраля: «Беспорядки продолжаются. Но довольно, пока, невинные (?). По Невскому разъезжают молоденькие казаки (новые, без казачьих традиций), гонят толпу на тротуары, случайно подмяли бабу, военную сборщицу, и сами смутились. Толпа — мальчишки и барышни». Там же о 26 февраля: «Сегодня с утра вывешено объявление Хабалова, что “беспорядки будут подавляться вооруженной силой”. <…> На ближайших улицах как будто даже тихо. Но Невский оцеплен. Появились “старые” казаки и стали с нагайками скакать вдоль тротуаров, хлеща женщин и студентов». Вот как эти же дни описываются в «Дневнике гимназиста о событиях в Петрограде (23 февраля — 1 марта 1917 г.)»: «На Невском трамваи не ходят, около Литейного вдоль панели большая масса народу. На углу казаки на лошадях. Несколько казачьих разъездов гарцуют по Невскому. <…> Казаки были душой на стороне народа, и самое большее, что предупреждали толпу: “Разойдитесь — стрелять будем”, но не стреляли. И толпу пропускали. На Невском проспекте, сам видел, как толпа махала шапками и платками казакам, в карьер ехавшим вдоль улицы». О февральских событиях ср. также у Н. Суханова в «Записках о революции» (Кн. 1) (1921): «…сообщения говорили о растущем разложении среди полиции и войск. Полицейские и казачьи части в большом количестве разъезжали и расхаживали по улицам, медленно пробираясь среди толп. Но никаких активных действий не предпринимали, чрезвычайно поднимая этим настроение манифестантов». Также ср. в книге воспоминаний П. Курлова «Гибель императорской России» (1923): «Казачьи части, на которые возложена обязанность не пропускать рабочих через мосты в город, нисколько такому проходу не препятствовали, а на следующий день на Невском проспекте казаки сопровождали толпу манифестантов в виде эскорта до Знаменской площади, где один из казаков в ответ на требование пристава Крылова рассеять толпу по приказанию офицера ударами шашки убил названного пристава». Еще ср. в заметке Григория Урюпинского «Те великие дни», написанной по относительно свежим следам февральских событий: «Казачий офицер лишь попросил толпу расступиться, чтобы можно было казакам проехать на Невский» (Лукоморье. 1917. № 9–11. 2 апреля. С. 8). Активное участие казаки принимали и в октябрьских событиях 1917 г. Ср., например, у Н. Суханова в «Записках о революции» (Кн. 7) (1921): Сейчас же было решено двинуть в дело казачьи части, расположенные в столице. Но пойдут ли?.. В 1, 4 и 14-й Донские казачьи полки была передана телефонограмма: «Во имя свободы, чести и славы родной земли выступить на помощь ЦИК, революционной демократии и Временному правительству». Подписали начальник штаба Багратуни и комиссар ЦИК Малевский. Казаки, однако, приказа не исполнили. Собрали митинги и начали торговлю. А пойдет ли с ними пехота?.. Сейчас же компетентные люди разъяснили, что пехота за правительством и ЦИК ни в каком случае не пойдет. Тогда полки заявили, что представлять собой живую мишень они не согласны и потому от выступления «воздерживаются».О позиции казаков в Октябре ср. и в мемуарах Ф. Дана «К истории последних дней Временного Правительства» (1923): «Когда в кулуарах предпарламента велись разговоры о грозящем восстании большевиков, и мы настаивали на том, что только осуществление предлагаемой нами программы может предупредить восстание или осудить его на неудачу, то правые (торгово-промышленники, кадеты и, особенно, казаки), совершенно не стесняясь, признавались, что желают, чтобы большевики выступили возможно скорее». В июле 1917 г. казачьи части участвовали в подавлении беспорядков в Петрограде, спровоцированных большевиками. Цвет обмундирования у казаков, несших службу в разных регионах, тоже был различным. Так, например, у донских казаков, в том числе, расквартированных в Петрограде, были синие фуражки с красным околышем. «Синие фуражки казаков» упоминаются, например, в рассказе Горького «Погром» (1901). Ношение фуражек и папах на затылках было отличительной чертой казачества. Ср., например, в книге «Сестры» (1922) романа А. Н. Толстого «Хождение по мукам»: «У вокзала стояли казаки в заломленных папахах, с тороками сена, бородатые и веселые». «Посолонь — нареч. по солнцу, по теченью солнца, от востока на запад, от правой руки (кверху) к левой. Посолонь ходила, венчана. Борони по солнцу (посолонь), лошадь не вскружится» («Словарь В. И. Даля»). Об особенностях казачьего образа жизни и поведения, отчасти объясняющих их «одинаковость», ср., например, у А. Деникина в «Очерках русской смуты. Том I. Крушение власти и армии» (1921): «Наконец в силу исторических условий, узкотерриториальной системы комплектования, казачьи части имели совершенно однородный состав, обладали большой внутренней спайкой и твердой, хотя и несколько своеобразной, в смысле взаимоотношений офицера и казака, дисциплиной, и поэтому оказывали полное повиновение своему начальству и верховной власти». На серебряном полтиннике был выбит портрет императора Николая II, так что О. М. в комментируемом отрывке, возможно, имеет в виду не только внешнее сходство всех казаков друг с другом, но и их бородатость. № 208. Можно сказать и зажмурив глаза, что это поют Описания поющих казаков многочисленны в русской литературе XIX–ХХ в. Ср., например, в повести Толстого «Казаки»: «Оленин все ходил и ходил, о чем-то думая. Звук песни в несколько голосов долетел до его слуха. Он подошел к забору и стал прислушиваться. Молодые голоса казаков заливались веселою песнею, и изо всех резкою силой выдавался один молодой голос» и т. д. Песня конников (скорее всего, казаков) упоминается и в одном из первых, дошедших до нас ст-ний О. М. «Тянется лесом дороженька пыльная…» (1907): «С гордой осанкою, с лицами сытыми… / Ноги торчат в стременах. / Серую пыль поднимают копытами, / И колеи оставляют изрытыми, / Все на холеных конях. / Нет им конца. Заостренными пиками / В солнечном свете пестрят. / Воздух наполнили песней и криками…» Также ср. в его позднейшем ст-нии «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток…» (1935): «День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса, / Ехала конная, пешая, шла черноверхая масса…» Хмель и хмелевую «муку» после просушки хранят в мешках или металлических ящиках. Шишки хмеля, поспевая, становятся золотисто-зелеными, иногда эти чешуйки-прицветники называют золотистыми железками, на них же появляются мелкие золотисто-желтые пузырьки. Отсюда, вероятно, у О. М. «золотой фольгою хмеля». Ср. также в его позднейшем «Путешествии в Армению»: «Сразу после французов солнечный свет показался мне фазой убывающего затмения, а солнце — завернутым в серебряную бумагу» (3: 200). Фольгой не только обертывают, но используют ее в качестве украшения. Ср., например, у Эртеля в романе «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги»: «Выскочила девочка лет девяти с оголенными костлявыми плечиками: кисейное выше колен платьице, кое-где оборванное и заштопанное, все было усеяно блестками из фольги и золоченой бумаги»; и у Соллогуба в «Тарантасе»: «Перед вами все нарумянено, раскрашено, фальшиво; всюду мишура и фольга». Также ср. в ст-нии К. Павловой «Impromptu: “Каких-нибудь стихов вы требуете, Ольга!..”»: «Ведь рифма, знаете, блестящая лишь фольга…». Метафора «хмеля» в поэзии О. М. весьма распространена. Ср., например, в его юношеском ст-нии «Среди лесов, унылых и заброшенных…» (1906): «Они растопчут нивы золотистые, / Они разроют кладбища тенистые, / Потом развяжет их уста нечистые / Кровавый хмель! / Они ворвутся в избы почернелые, / Зажгут пожар, хмельные, озверелые…»; в ст-нии О. М. «Когда укор колоколов…» (1910): «Когда укор колоколов / Нахлынет с древних колоколен, / И самый воздух гулом болен, / И нету ни молитв, ни слов — / Я уничтожен, заглушен. / Вино, и крепче и тяжелее / Сердечного коснулось хмеля — / И снова я не утолен…»; в ст-нии «Душу от внешних условий…» (1911): «Душу от внешних условий / Освободить я умею: / Пенье — кипение крови / Слышу — и быстро хмелею»; в ст-нии «Ахматова» (1914): «Зловещий голос– горький хмель– / Души расковывает недра…»; в ст-нии «Ода Бетховену» (1914): «Кто по-крестьянски, сын фламандца, / Мир пригласил на ритурнель / И до тех пор не кончил танца, / Пока не вышел буйный хмель?»; в ст-нии «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа…» (1917): «Нам пели Шуберта, — родная колыбель. / Шумела мельница, и в песнях урагана / Смеялся музыки голубоглазый хмель. / Старинной песни мир, коричневый, зеленый…»; в ст-нии «Нет, никогда ничей я не был современник…» (1924): «Сто лет тому назад подушками белела / Складная легкая постель, / И странно вытянулось глиняное тело, — / Кончался века первый хмель»; в «Стихах о русской поэзии» (1932): «Дай Языкову бутылку / И подвинь ему бокал, / Я люблю его ухмылку, / Хмеля бьющуюся жилку / И стихов его накал»; в ст-нии «За Паганини длиннопалым…» (1935): «И вальс из гроба в колыбель / Переливающей, как хмель»; в ст-нии «Слышу, слышу ранний лед…» (1937): «Вспоминаю, как плывет / Светлый хмель над головами». Приварок — 1) воен. довольствие в виде горячей, готовой для еды пищи; 2) паек, продукты для приготовления пищи. Ср. в детском ст-нии О. М. «Кухня» (1926): «Мы, чаинки-шелестинки, / Словно гвоздики звеним. / Хватит нас на сто заварок, / На четыреста приварок: / Быть сухими не хотим!» «Приварок» в комментируемом фрагменте через первое значение оказывается связан с казаками, но по типу словоформы также приобретает значение «приправы», «добавки» к чему-то (ср. о хмеле чуть выше в комментируемом фрагменте). Составленные из общих букв словa «ТОПОТ» и «ПОТ» объединены и в «Путешествии в Армению»: «Я выпил в душе за здоровье молодой Армении с ее домами из апельсинового камня, за ее белозубых наркомов, за конский пот и топот очередей…» (3: 183). Ср. также в поэме-палиндроме Хлебникова «Разин» (1920): «Лепет и тепел / Ветел, летев, / Топот. <…> Потоп / И / Топот! <…> Топ и пот, / Топора ропот <…> То пота топот! <…> По топоту то потоп. / Пот и топ. <…> Потока топ / И / Топот» и проч. Описываемые в комментируемом отрывке «зеркальные окна бельэтажей» ранее фигурировали во фр. № 195, где речь шла о зеркальных зенках «барско-холуйских квартир». Ср. также, например, в романе Лескова «Некуда»: «…несколько человек, свободно располагающих временем и известным капиталом, разом снялись и полетели вереницею зевать на зеркальные окна Невского проспекта…»; и у Андрея Белого в «Петербурге»: «…мгновенный и испуганный взгляд на зеркальные отблески стекол; быстро он кинулся на подъезд, на ходу расстегнувши черную лайковую перчатку». Также ср. у Л. Андреева в романе «Иго войны»: «…с какою завистью, с каким отчаянием, с какой подлой жадностью смотрю я на богатых, на их дома и зеркальные стекла…»; и у С. Буданцева в романе «Мятеж» (1922): «…сковырнуты в январе этого же 1918 года золотые буквы вывесок, над плотно, как мертвые веки, закрытыми ставнями, под которыми жутко закатились пустые зеркальные стекла; вместо витрины чернеет пропасть…» О мотиве зеркала в «ЕМ» ср. комм. к фр. № 9 и 90. О бельэтаже ср. фр. № 11 и комм. к нему. «Башкирка — (разг.) башкирская лошадь, нетребовательная и выносливая; рост 2 арш. 1 вер.–2 а. 3 в.; масть большей частью саврасая с ремнем на спине» («Словарь Брокгауза и Ефрона»). Диафрагма (лат. diaphragma) — непарная широкая мышца, разделяющая грудную и брюшную полости и служащая для расширения легких. Пение на диафрагме (диафрагмой) является одним из способов вокального исполнения (в противоположность пению, например, голосовыми связками). Поскольку пение на диафрагме предполагает искусное владение дыханием, можно предположить, что в комментируемом фрагменте также обыгрывается идиома «на одном дыхании» (все поют как один). Ср. в позднейшем ст-нии О. М. «Пою, когда гортань — сыра, душа — суха…» (1937): «Уже не я пою — поет мое дыханье — / И в горных ножнах слух, и голова глуха… / Песнь бескорыстная — сама себе хвала: / Утеха для друзей и для врагов — смола. / Песнь одноглазая, растущая из мха, — / Одноголосый дар охотничьего быта, / Которую поют верхом и на верхах, / Держа дыханье вольно и открыто…» Возможно, впрочем, что подразумевается лошадиная диафрагма, а переступающие ноги лошадей «срезаны» зеркальным бельэтажным отражением. Подпруга — широкий ремень у седла и седелки, который затягивается под брюхом у лошади. «Шенкель, в кавалерии, в кавалерийской посадке — часть ноги ниже колена (икра), прилегающая к бокам лошадей; служит для управления задом последней» («Словарь Брокгауза и Ефрона»). № 209. Уничтожайте рукопись, но сохраняйте то, В комментируемом фрагменте мотивируется сделанный в «ЕМ» выбор угла зрения на жизнь Петрограда в мае–июне 1917 г.: большим историческим событиям и фигурам предпочитаются малые, почти комические, как бы случайно попавшие в поле зрения рассказчика. Сходным образом фабула повести соотносится с внефабульными эпизодами: «рукопись» вытесняется и заменяется отступлениями — «второстепенными и мимовольными созданиями» «фантазии». Наконец, в комментируемом фрагменте можно увидеть и метафору соотношения классической прозы XIX в. с «ЕМ» — это соотношение «рукописи» с отступлениями и завитушками на полях. Безусловно, самое известное уничтожение «рукописи» в истории русской классической литературы — это сожжение Гоголем второго тома «Мертвых душ» (ср. с темой пожаров в «ЕМ»). Ср. также в ст-нии О. М. «Ода Бетховену» (1914): «И в темной комнате глухого / Бетховена горит огонь. / И я не мог твоей, мучитель, / Чрезмерной радости понять — / Уже бросает исполнитель / Испепеленную тетрадь». О случайном и второстепенном на полях рукописных листов ср. фр. № 101 («Так на полях черновиков возникают арабески и живут своей самостоятельной, прелестной и коварной жизнью») и комм. к нему. Вероятно, следует обратить внимание на стилистические особенности комментируемого фрагмента, в котором использование высокой поэтической лексики («начертали», «как бы во сне», «мимовольные», «создания», «творцу») контрастирует с употреблением разговорного словечка «заварят». Ср., например, в «Вечере накануне Ивана Купала» Гоголя: «Поляку дали под нос дулю, да и заварили свадьбу», а также в «Двойнике» Достоевского: «Господи Бог мой! Эк ведь черти заварили кашу какую!» О мотиве сна ср. фр. № 202 и комм. к нему. О «третьих скрипках» ср. комм. к фр. № 101. Принято считать, что именно Бетховен превратил симфоническую увертюру в самостоятельный жанр. Под увертюрой к «Леноре» (правильнее «Леоноре») подразумевается увертюра к опере «Фиделио» (первое представление в 1805 г.), первоначально названная «Леонора» (от заглавия французской пьесы Жана Николя Буйи «Леонора, или Супружеская любовь», на сюжет которой она была написана). Но против желания композитора опера была переименована в «Фиделио», чтобы не повторять названия уже существовавшей к тому времени оперы Фердинанда Паэра, написанной на тот же сюжет. В итоге, название «Леонора» было дано Бетховеном отдельно увертюре к этой опере. Поэтому правильнее было бы сказать, что «третьи скрипки» «заварят» увертюру «Леонора», а не «к “Леоноре”». В Мариинском театре опера «Фиделио» впервые была исполнена 26 сентября 1905 г. под управлением Э. Направника. Наиболее знаменита и чаще всего исполняема «Леонора № 3» (из 4-х редакций этой увертюры). Музыка к трагедии Гете «Эгмонт» (увертюра и девять музыкальных фрагментов) была написана Бетховеном в 1810 г. В черновике упомянута также бетховенская увертюра к трагедии «Кориолан» Г. Колина (не путать с трагедией Шекспира). № 210. Какое наслаждение для повествователя от третьего лица Ср. фр. № 121 («Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него») и комм. к нему. В комментируемом фрагменте повествователь отделяет себя не только от Парнока, но и от традиционного «маленького человека» вообще; ср. в «Белых ночах» Достоевского, герой которых, «маленький человек», напротив, стремится сменить первое лицо на третье: «…уж позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать…» Также ср. в «Шинели» Гоголя: Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. «Неудобные стаканчики-наперстки» отсылают читателя к фр. № 5 («Семья моя, я предлагаю тебе герб: стакан с кипяченой водой»). Ср. в комм. к этому фр. о «сырой воде». Также ср., например, у М. Шагинян в повести «Перемена» (1923): «Фельдшер обходит станицу, расклеивая объявленье: Не пейте сырой воды! Не ешьте сырых овощей!»; и у С. Григорьева в повести «Казарма» (1925): «И забыл бы совсем, да везде на стенах наклеены видные плакаты: “Берегись вшей”. “Не пей сырой воды. Не ешь сырых фруктов”». Еще ср. у А. Пантелеева в повести «Ленька Пантелеев» (1952) и тоже о 1920-х гг.: «Там пахло йодоформом, повсюду валялись ошметки бинтов, марля, вата, а на бревенчатых стенах висели обрывки плакатов. ДОБЬЕМ ДЕНИКИНА!!! НЕ ПЕЙТЕ СЫРОЙ ВОДЫ! ТИФОЗНАЯ ВОШЬ — ВРАГ РЕВОЛЮЦИИ!» Литота «наперсток» используется, например, в цикле Некрасова «Песни о свободном слове»: «Вот наконец и сверстка! / Но что с тобой, тетрадь? / Ты менее наперстка / Являешься в печать!» и в начальных строках ст-ния самого О. М. 1937 г.: «Влез бесенок в мокрой шерстке — / Ну, куды ему? Куды? — / B подкопытные наперстки, / В торопливые следы…» № 211. Страх берет меня за руку и ведет. Белая нитяная Первое предложение комментируемого фрагмента строится на разрушении идиомы «страх берет» и использовании прямого значения глагола «берет», благодаря чему «страх» антропоморфируется. О констатации в творчестве О. М. «определенного позитивного значения страха» ср. в статье: Аверинцев С. Страх как инициация: одна тематическая константа поэзии Мандельштама // Смерть и бессмертие поэта. М., 2001. С. 17. Поскольку «страх» «берет» «за руку» и рукой — далее во фрагменте по ассоциации возникает образ перчатки. Митенки — перчатки, «не прикрывающие концов пальцев» («Словарь Брокгауза и Ефрона»). Ср., например, у Бунина в рассказе «Хорошая жизнь» (1911): «Постояла она, постояла против меня, подержала шелковый подол, — как сейчас помню, в гости нарядилась, в коричневом шелковом платье была, в митенках белых, с зонтиком и в шляпке белой, вроде корзиночка…»; у Садовского в повести «Бурбон» (1913): «Было так жарко, что даже белые вязаные митенки Маша сняла со своих загорелых рук…»; в мемуарной книге Набокова «Другие берега»: «В кружевных митенках, пышном шелковом пеньюаре, напудренная, с округленной под мушку черной родинкой на розовой щеке, она казалась стилизованной фигурой в небольшом историческом музее». О «времени и пространстве» ср. комм. к фр. № 20. В комментируемом фрагменте время и пространство выступают как две оси координат, то есть как геометрические понятия. Подобно тому, как координата в математике определяет положение точки или тела в пространстве, страх предстает как величина, определяющая параметры жизни человека. О геометрической образности ср. комм. к фр. № 46 и др. Ключом к пониманию образа «шатра» — геометрической координаты из комментируемого фрагмента — может послужить первая строфа позднейшего ст-ния О. М. 1933 г.: «Скажи мне, чертежник пустыни, / Арабских песков геометр, / Ужели безудержность линий / Сильнее, чем дующий ветр? »Шатер, выстраиваемый посреди обширного пустого пространства, превращает его строителя в геометра, имеющего дело с линиями, образующими в итоге выпуклость, полуокружность. Ср. в позднейшем «Путешествии в Армению» О. М.: «Возьмите любую точку и соедините ее пучком координат с прямой. Затем продолжьте эти координаты, пересекающие прямую под разными углами, на отрезок одинаковой длины, соедините их между собой, и получится выпуклость» (3: 194). Ср., например, геометрические указания, в соответствии с которыми должна была ставиться евреями скиния (шатер) собрания (Исх. 26, 2–37). В этой же книге Ветхого завета два стиха посвящены Страху Божию (Исх. 3, 6; Исх. 20, 18). Скиния собраний упоминается в «Оде Бетховену» (1914) О. М.: «О величавой жертвы пламя! / Полнеба охватил костер — / И царской скинии над нами / Разодран шелковый шатер». Ср. математические мотивы комментируемого фрагмента с отчасти сходной образностью в романе Замятина «Мы» (1920): «Начало координат во всей этой истории — конечно, Древний Дом»; или в «Третьей фабрике» (1923) Шкловского: «Но я забыл натянуть координаты времени и пространства в своем рассказе…» Устройство «киргизской кибитки» описано, например, в «Путевых впечатлениях» Александра Дюма: «Между первой и второй почтовыми станциями мы начали издали замечать то здесь, то там киргизские кибитки. Как и кибитки калмыков, они сделаны из войлока, имеют пирамидальную форму и отверстие наверху для выхода дыма от очага». Ср. в ст-нии О. М. «Нет, никогда ничей я не был современник…» (1924): «Среди скрипучего похода мирового / Какая легкая кровать. / Ну что же, если нам не выковать другого, / Давайте с веком воевать. / И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке / Век умирает — а потом / Два сонных яблока на роговой облатке / Сияют перистым огнем». Возможный источник образа «кибитки» у О. М. — строки из «Дорожных жалоб» Пушкина: «Долго ль мне гулять на свете / То в коляске, то верхом, / То в кибитке, то в карете, / То в телеге, то пешком?» Вместе с тем «шатер» и кочевые мотивы могут отсылать к пушкинским же «Цыганам». Приведем большую сборную цитату из этой поэмы: «Цыганы шумною толпой / По Бессарабии кочуют. / Они сегодня над рекой / В шатрах изодранных ночуют. <…> Все тихо — страх его объемлет, / По нем текут и жар и хлад; / Встает он, из шатра выходит, / Вокруг телег, ужасен, бродит; / <…> / Но счастья нет и между вами, / Природы бедные сыны!.. / И под издранными шатрами / Живут мучительные сны, / И ваши сени кочевые / В пустынях не спаслись от бед, / И всюду страсти роковые, / И от судеб защиты нет». «Войлок — особого рода ткань, образованная спутавшимся, тесно сплетшимся животным волосом или шерстью. В. изготовляется из шерсти под влиянием сжимания, скручивания, сбивания (валяния) и пр. <…> Шерсть, идущая на В., моется, сортируется и расчесывается; затем ее расстилают ровным слоем на холсте, смачивают горячей водой и сначала обжимают рукой, а потом свертывают в трубку вместе с холстом и катают по полу. Когда шерсть достаточно уплотнилась, валяние производят без холста, смачивая время от времени водой» («Словарь Брокгауза и Ефрона»). В финале комментируемого фрагмента О. М. использует два мотива, позволяющие с легкостью объединить пространство со временем (хронотоп) — движение лошади во времени и в пространстве и длящийся во времени сон, тема которого — пространство. О страшных снах ср. фр. № 198 и № 202 и комм. к ним. О «низких банных потолках Александринки» ср. фр. № 122. 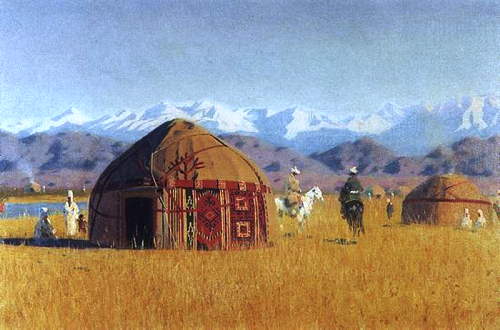
Верещагин. Киргизские кибитки № 212. На побегушках у моего сознания два-три словечка: Ср. с параллелью в ст-нии Киплинга (пер. Маршака): «Есть у меня шестерка слуг, / Проворных, удалых, / И все, что вижу я вокруг, — / Все знаю я от них. / Они по знаку моему / Являются в нужде. / Зовут их: Как и Почему, / Кто, Что, Когда и Где». Также ср. в черновиках к «ЕМ»: «На побегушках у моего ощущения — две-три <1 нрзб> частицы речи: “и вот”, “уже”, “вдруг”… Они перебегают в ночном поезде из вагона в вагон и задерживаются на буферных площадках, переступая с одной гремящей сковороды на другую» (2: 579). В предпоследней редакции этого предложения было: «…две гремящих сковороды, которым никак не сговориться» (2: 579). Еще ср. фр. № 213. Заменяя в комментируемом фрагменте глагол «пробегают» на «мотаются», а «частицы речи» на «словечки», О. М., по-видимому, учитывал возникающий при этом языковой каламбур. «Mot» (фр.) — «слово». Ср.: Амелин Г. Г., Мордерер В. Я. А вместо сердца пламенное mot // Амелин Г. Г., Мордерер В. Я. Миры и столкновенья Осипа Мандельштама. М.; СПб., 2000. С. 64–80. В своем позднейшем «Письме тов. Кочину» (1929) автор «ЕМ» употребил глагол «мотаются» перед тем, как сурово осудить тот тип фабулы, который был использован в его собственной повести 1927 г.: Старая литература висит над нами, как тяжелый рок, как зловещий топор. Мы должны сделать так, чтобы прекратились книги, где крестьяне только галдят, только беспорядочно перекатываются со страницы на страницу, треплются, мотаются — все на одно лицо: ведь это барин не различал их, как муравьев. Характерно отметить, что почти все деревенские книги лишены завязки и развязки, лишены фабулы. Я думаю, что это происходит от литературного барства, которым мы все заражены. Ведь хорошая, интересная фабула — это признак уважения писателя к своему герою (2: 530). Комментируемый фрагмент не является автометаописанием: в своей повести О. М. отнюдь не злоупотребляет «словечками» «и вот» (ни разу не встречается в «ЕМ», если не считать комментируемого отрывка), «уже» (9 раз встречается в «ЕМ») и «вдруг» (2 раза встречается в «ЕМ»). По поводу «вдруг» ср. в «Петербурге» Андрея Белого: От перекрестка до ресторанчика на Миллионной описали мы путь незнакомца; описали мы, далее, самое сидение в ресторанчике до пресловутого слова «вдруг», которым все прервалось; вдруг с незнакомцем случилось там что-то; какое-то неприятное ощущение посетило его. <…> Читатель! «Вдруг» знакомы тебе. Почему же, как страус, ты прячешь голову в перья при приближении рокового и неотвратного «вдруг»? Заговори с тобою о «вдруг» посторонний, ты скажешь, наверное: — «Милостивый государь, извините меня: вы, должно быть, отъявленный декадент». И меня, наверное, уличишь в декадентстве. Ты и сейчас предо мною, как страус; но тщетно ты прячешься — ты прекрасно меня понимаешь; понимаешь ты и неотвратимое «вдруг». Слушай же… Твое «вдруг» крадется за твоею спиной, иногда же оно предшествует твоему появлению в комнате <…> Иногда же при входе в гостиную тебя встретят всеобщим: — «А мы только что вас поминали…» И ты отвечаешь: — «Это, верно, сердце сердцу подало весть». Все смеются. Ты тоже смеешься: будто не было тут «вдруг». Иногда же чуждое «вдруг» поглядит на тебя из-за плеч собеседника, пожелав снюхаться с «вдруг» твоим собственным. Меж тобою и собеседником что-то такое пройдет, отчего ты вдруг запорхаешь глазами, собеседник же станет суше. Он чего-то потом тебе во всю жизнь не простит. Твое «вдруг» кормится твоею мозговою игрою; гнусности твоих мыслей, как пес, оно пожирает охотно; распухает оно, таешь ты, как свеча; если гнусны твои мысли и трепет овладевает тобою, то «вдруг», обожравшись всеми видами гнусностей, как откормленный, но невидимый пес, всюду тебе начинает предшествовать, вызывая у постороннего наблюдателя впечатление, будто ты занавешен от взора черным, взору невидимым облаком: это есть косматое «вдруг», верный твой домовой…Еще ср. в «Анне Карениной» (о сыне героини Сереже): «Он чувствовал себя невиноватым за то, что не выучил урока; но как бы он ни старался, он решительно не мог этого сделать: покуда учитель толковал ему, он верил и как будто понимал, но как только он оставался один, он решительно не мог вспомнить и понять, что коротенькое и такое понятное слово “вдруг” есть обстоятельство образа действия». Железнодорожные мотивы комментируемого фрагмента подготовлены предыдущим отрывком, насыщенным «кочевыми» мотивами. Ср. в позднейшем «Путешествии в Армению» О. М., где «кочевые» и железнодорожные мотивы сцеплены: «Хозяева готовились ко сну. Плошка осветила высокую, как бы железнодорожную палатку» (речь идет о шатре) (3: 211). В севастопольском поезде О. М. часто ездил в Крым и из Крыма. Ср. в его очерке «Севастополь» (1923): «Скорые поезда выбрасывают на маленькую площадь из одноэтажного белого вокзала массу пассажиров» (2: 330). «Буферными площадками» О. М. называет ограниченное внутренними дверями пространство между вагонными тамбурами. Ср. также метафорическое описание лязга сцепившихся вагонов у О. М. с описанием грозы в «Бабочке-буре» (1923) Пастернака: «Напрасно в сковороды били, / И огорчалась кочерга. / Питается пальбой и пылью / Окуклившийся ураган». № 213. Железная дорога изменила все течение, все Через метафору железной дороги новейшая русская проза сопоставляется в комментируемом фрагменте с классической прозой. Ср. с зачином заметки О. М. «Литературная Москва. Рождение фабулы» (1922) с использованием метафоры монастырского чтения: Некогда монахи в прохладных своих готических трапезных вкушали более или менее постную пищу, слушая чтеца, под аккомпанемент очень хорошей для своего времени прозы из книги Четьи-Минеи. Читали им вслух не только для поучения, а чтение прилагалось к трапезе как настольная музыка, и, освежая головы сотрапезников, приправа чтеца поддерживала стройность и порядок за общим столом. А представьте какое угодно общество, самое просвещенное и современное, что пожелает возобновить обычай застольного чтения и пригласит чтеца, и, желая всем угодить, чтец прихватит «Петербург» Андрея Белого, и вот он приступил, и произошло что-то невообразимое — у одного кусок стал поперек горла, другой рыбу ест ножом, третий обжегся горчицей (2: 260).Ср. в этой статье далее: «Русская проза тронется вперед, когда появится первый прозаик, независимый от Андрея Белого» (2: 262). Как и для железнодорожного движения, для новейшей русской прозы, согласно О. М., характерны прерывистое «течение», громоздкое «построение», отсутствие «стройности», а также (монтажные) сцепления вместо единства, и это лишает новейшую прозу прежней (например, тургеневской) «красоты и округленности». О прекрасной округленности (Успенского собора) ср. в ст-нии О. М. «О это воздух, смутой пьяный…» (1916): «Успенский, дивно округленный, / Весь удивленье райских дуг…» О музыкальном такте ср. фр. № 113 и комм. к нему. Музыкальный «такт» подразумевается при описании движения поезда, например, в рассказе Бунина «Новая дорога»: «Но поезд борется: равномерно отбивая такт тяжелым, отрывистым дыханием…» Ср. также у Л. Андреева в рассказе «Вор» (1904): «…тело безвольно и сладко колыхалось в такт дыханиям вагона…» и в позднейшем «Чевенгуре» Платонова (1929): «Закругления валили с ног паровозную бригаду, а вагоны сзади не поспевали отбивать такт на скреплениях рельсов и проскакивали их с воем колес». Французский мужичок в романе Толстого «Анна Каренина» является во сне Вронскому и Анне, а в день ее гибели воплощается в «испачканного уродливого мужика в фуражке, из-под которой торчали спутанные волосы»: Утром страшный кошмар, несколько раз повторявшийся ей в сновидениях еще до связи с Вронским, представился ей опять и разбудил ее. Старичок-мужичок с взлохмаченною бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая бессмысленные французские слова, и она, как и всегда при этом кошмаре (что и составляло его ужас), чувствовала, что мужичок этот не обращает на нее внимания, но делает это какое-то страшное дело в железе над нею, что-то страшное делает над ней.Ср. во сне Вронского: «Что такое? Что? Что такое страшное я видел во сне? Да, да. Мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова». А вот описание сна Анны Карениной: «Я видела, что вбежала в твою спальню <…> и в спальне, в углу стоит что-то <…> И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик маленький с взъерошенною бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там…» О «дамской сумочке» ср. фр. № 4 и комм. к нему. О «бредовых частичках» ср. фр. № 213 и комм. к нему. В черновике «ЕМ» комментируемый фрагмент завершался следующим образом: «Вот она, <по>слушайте (?): Il faut battre le fer lorsque il est chaud» («Куй железо, пока горячо»). В поговорку преображено здесь французское лопотанье мужичка из «Анны Карениной»: «Он копошится и приговаривает по-французски, скоро-скоро и, знаешь, грассирует: “Il faut le battre le fer, le broyer, le petrir”…» («Надо ковать железо, толочь его, мять»). Сцепщик — железнодорожный рабочий по сцепке вагонов. Железные инструменты сцепщика — аналог писательского инструментария, с их помощью происходит «сцепление» текста в единый работающий механизм. Ср. также в ст-нии Анненского «Будильник» (из «Трилистника обреченности»): «Цепляясь за гвоздочки, / Весь из бессвязных фраз, / Напрасно ищет точки / Томительный рассказ, / О чьем-то недоборе / Косноязычный бред… / Докучный лепет горя / Ненаступивших лет…»; и в его же «Стальной цикаде»: «Сердца стального трепет / Со стрекотаньем крыл / Сцепит и вновь расцепит / Тот, кто ей дверь открыл…» Еще ср. у Пастернака во второй части «Спекторского» (1925): «Карениной, — так той дорожный сцепщик / В бреду за чепчик что-то бормотал». О «железном скобяном товаре» ср. в ст-нии О. М. «1 января 1924» (подробнее об этой перекличке ср.: Ronen: 288–289). О гайках, «коими рельсы прикрепляются к шпалам», используемых в качестве судебных улик ср. в «Злоумышленнике» Чехова, где к ответу призван «маленький, чрезвычайно тощий мужичонко». № 214. Да, там, где обливаются горячим маслом мясистые В комментируемом фрагменте развивается «железнодорожная» метафорика, неброско соединенная теперь с «кулинарной» («обливаются горячим маслом», «мясистые», «живоглотный», «с графинчиками запотевшей водки»). Ср. о «масле» в детском ст-нии О. М. «Кухня» (1925): «Весело на противне / Масло зашипело — / То-то поработает / Сливочное, белое». Ср. также в комм. к фр. № 213 уподобление прозы «приправе» на монастырской трапезе. Еще ср. в позднейшей «Четвертой прозе» (1930) О. М.: «Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост…» (3: 171) и в его ст-нии «Батюшков» (1932): «Только стихов виноградное мясо / Мне освежило случайно язык». О «рычагах» ср. фр. № 190 («…обманные рычаги управляют громадами и годами…») и комм. к нему. Изображение паровозного рычага ср. также в «Анне Карениной» Толстого: «Через несколько минут платформа задрожала, и, пыхая сбиваемым книзу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно насупливающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса…» В черновике к «ЕМ» прямо указывалось, что речь в комментируемом фрагменте идет о прозе «русского романа» (2: 579), а слово уподоблялось Анне Карениной: «…там бросается на рельсы то, что было некогда словом» (2: 579). Метафора «проза» «дышит» в комментируемом фрагменте, по-видимому, тоже «железнодорожная» и подразумевает выпускание пара паровозом. Ср., например, в рассказе Чехова «Бабье царство» о паровозном депо: Высокие потолки с железными балками, множество громадных, быстро вертящихся колес, приводных ремней и рычагов, пронзительное шипение, визг стали, дребезжанье вагонеток, жесткое дыхание пара, бледные или багровые или черные от угольной пыли лица, мокрые от пота рубахи, блеск стали, меди и огня, запах масла и угля, и ветер, то очень горячий, то холодный, произвели на нее впечатление ада.Ср., впрочем, в заметке О. М. «Литературная Москва» (1922) о поэзии и безо всякой связи с железной дорогой: «Поэзия дышит и ртом и носом, и воспоминанием и изобретением» (2: 258). Еще ср. в «Четвертой прозе» о литературе вообще: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух» (3: 171). «Голýбой» в позднейшем ст-нии О. М. «Жил Александр Герцович…» (1931) будет названа музыка: «Нам с музыкой-голубою / Не страшно умереть…» Эпитеты, характеризующие прозу в комментируемом фрагменте («пущенная в длину», «обмеривающая», «наматывающая» «на аршин»), можно отнести и к ремеслу портного (важная тема для «ЕМ»; ср., например, фр. № 12 и др.) Ср. с неброским и каламбурным уподоблением мастерства прозаика мастерству портного в заглавии знаменитой статьи Б. Эйхенбаума «Как сделана “Шинель” Гоголя» (1924). Эпитет «бесстыдная» и его синонимы у О. М. могут быть как неодобрительными (ср. во фр. № 130: «Проклятые стогны бесстыжего города!»), так и вполне одобрительными (ср. в позднейшем «Разговоре о Данте» (1933), где говорится о «бесстыжей, намеренно инфантильной» оркестровке Данте (3: 248–249)). Эпитету «живоглотный» в комментируемом фрагменте придано значение «жадный до впечатлений», «жадно заглатывающий впечатления». «Живоглот м. твер. обжора, жадный, прожора» («Словарь В. И. Даля»). Ср. в заметке О. М. «Литературная Москва. Рождение фабулы» (1922) о новейшей прозе: «На нас идет фольклор прожорливой гусеницей» (2: 264). В финале комментируемого фрагмента О. М., в преддверии фр. № 215, локализует маршрут, о котором идет речь: 609 «николаевских верст» насчитывает железнодорожный путь от Петербурга до Москвы. «Дорога была проложена по кратчайшему расстоянию между Петербургом и Москвой и составляла 604 версты. <…> При перестройке мостов один из них, самый длинный (около 1 вер., при выс. в 27 саж.) чрез ручей Веребьинский (185 в.) заменен насыпью, для чего пришлось и самый путь удлинить на 5 верст. <…> Таким образом в настоящее время главная линия Николаевской железной дороги составляет 609 верст» («Словарь Брокгауза и Ефрона»). «Николаевской» железная дорога стала называться с 8 сентября 1855 г. (в честь императора Николая I); 27 февраля 1923 г. она была официально переименована в «Октябрьскую». Возможно, в комментируемом фрагменте, как и во фр. № 189, обыгрывается звуковое сходство слов «верст» и «верстка». О водке, подаваемой в железнодорожных вагонах-ресторанах ср., например, в позднейшем «Золотом теленке» Ильфа и Петрова: «Остап <…> отправился в вагон-ресторан. Ему принесли графин водки, блиставший льдом и ртутью, салат и большую, тяжелую, как подкова, котлету». № 215. В девять тридцать вечера на московский ускоренный Следом за сравнением русской прозы былых времен с современной О. М. прозой в тексте описывается «путешествие из Петербурга в Москву» образца 1917 г. — по железной дороге (и у Радищева, и далее у О. М. (ср. фр. № 216) упоминаются Любань и Клин; о Радищеве ср. комм. к фр. № 193). Скорые (ускоренные) поезда были введены на Николаевской железной дороге в 1890 г., они могли развивать скорость 80 км/ч и более. Ср., например, в рассказе С. Семенова «По стальным путям» (1925): «В мартовскую ночь тысяча девятьсот двадцать второго года скорый “Петроград — Москва” глотает шестьдесят верст в час. <…> Поезд сорвался в мартовскую ночь. Скорый “Петроград — Москва” нагоняет простой. Через три минуты от станции — семьдесят верст!»; и, особенно, в мемуарах Р. Иванова-Разумника «Тюрьмы и ссылки» (1934–1944) о событиях 1919 г.: «На Николаевский вокзал конвой доставил меня за полчаса до отхода девятичасового скорого поезда. <…> …скорый поезд выходил из Петербурга вечером, приходил в Москву рано утром». О визитке Парнока ср. фр. № 10 и далее. О рубашке Парнока ср. фр. № 76. О шевиоте ср. фр. № 19 и комм. к нему. Здесь же ср. неброское уподобление визитки дельфину («Кто знает, быть может, визитка на венской дуге кувыркается, омолаживается, одним словом, играет?..»). Ср. также в очерке О. М. «Феодосия» (1924) о художнике Мазеса да Винчи: «Когда вещи были выглажены, Мазеса стал собираться к вечернему выходу <…> Он вынул из шкапа визитку и в полном вечернем туалете <…> с черными шевиотовыми ластами на белых ляжках вышел на улицу» (2: 402). В комментируемом фрагменте визитка сравнивается с дельфином, потому что у нее тоже есть ласты (отсюда: «сродни покроем»). Кроме того, сходно звучат эпитеты, относящиеся к дельфину («ШАлОВлИВЫМ») и к визитке («ШеВИОтОВЫМ»). Также пародируется ст-ние О. М. 1909 г.: «Ни о чем не нужно говорить, / Ничему не следует учить, / И печальна так и хороша / Темная звериная душа: /Ничему не хочет научить, / Не умеет вовсе говорить / И плывет дельфином молодым / По седым пучинам мировым». № 216. Ротмистр Кржижановский выходил пить водку Любань и Бологое — станции Николаевской железной дороги. Расстояние от Петербурга до Любани — 83 км, от Петербурга до Бологого — 319 км. Спал ли в эту ночь ротмистр Кржижановский, если в Любани (примерно 11 часов вечера) и Бологом (примерно 3 часа ночи) он пил водку, а в Клину (примерно 7–8 утра; ср. комм. № 246) — кофе? Ср. в «Анне Карениной» о ротмистре Вронском, который, преследуя героиню, едет из Москвы в Петербург: «Вронский и не пытался заснуть всю эту ночь. <…> И когда он вышел из вагона в Бологове, чтобы выпить сельтерской воды, и увидал Анну, невольно первое слово его сказало ей то самое, что он думал». Можно предположить, что ротмистр Кржижановский из «ЕМ» представляет собой карикатуру на Вронского из «Анны Карениной», который тоже «смотрел на людей, как на вещи». Соответственно, благородная «сельтерская вода» снижается у О. М. до вульгарной «водки». «Что бормотал ротмистр, невольно уподобляясь названному… чуть выше мужичку-франкофону из железнодорожного эпизода “Анны Карениной”?» «Вздорная триада» «суаре-муаре-пуаре» «настроена на той языковой игре, которая именуется редупликацией на “м” <…>, но ее заключительный элемент представляется отсылкой к имени героини петроградских пересудов кануна революции, времени нашумевшего процесса осени 1916 года — Марии Яковлевны Пуаре. В “лето Керенского”, описанное в “Египетской марке”, был повод снова вспомнить о ней» (Тименчик: 426), поскольку Керенский согласился стать шафером на свадьбе члена Государственной Думы графа А. А. Орлова-Давыдова с этой актрисой. «Оскандаленный на всю Россию недавним судебным процессом артистки Марусиной (Пуаре), умудрившейся, несмотря на свои пятьдесят лет, развести его с женой и женить его на себе, подсунув ему якобы рожденного ею от него ребенка, граф последнее время неотступно следовал за Керенским» (из мемуаров Н. Карабчевского; цит. по: Тименчик: 426). В 1910-е гг. широкой популярностью также пользовался авиатор Пуаре (ср., например: Лукоморье. 1914. № 6. 21 мая. С. 17). По предположению Н. А. Богомолова может подразумеваться и французский модельер Поль Пуаре (Богомолов Н. А. О зауми у Мандельштама // Богомолов Н. А. От Пушкина до Кибирова. Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. М., 2004. С. 318–323). Через бритье ротмистр Кржижановский ненавязчиво сопоставляется и с бальзаковским Люсьеном де Рюбампре. Ср. фр. № 34 («Однажды он брился в счастливый для себя день и будущее родилось из мыльной пены») и комм. к нему. О бритье в поезде ср., например, в мемуарном очерке Шкловского «Хроника подвигов» (1981): «Маяковский обновлял все трибуны, все дворцы культуры. Он мне рассказывал, что все обычные дела его превратились в версты. Он уже знал, сколько верст надо бриться в поезде и сколько верст надо пить чай». № 217. В Клину он отведал железнодорожного кофия, Расстояние от Клина до Москвы 90 км. Ср., например, у Н. Гейнце в «Сценах из петербургской жизни» (рассказ «От Москвы до Петербурга», 1912): Станция Клин!.. Поезд стоит 10 минут! — как перун, проносясь по вагонам, возвещает кондуктор. <…> Раздается протяжный свисток. Поезд останавливается. В столовой блондинка, по странному стечению обстоятельств, очутилась между обоими юнцами, которые по очереди друг перед другом угощают ее всеми кулинарными благами, украшающими буфетные столы. Немец сидит неподалеку и сосредоточенно пьет из чашки бульон; старик-жид прохаживается мимо и лукаво улыбается. По возвращении в вагон гвардейцы подсаживаются уже ближе к юной путешественнице и ведут с ней оживленную беседу. Суррогатный кофе из злаковых культур (овса, ржи, ячменя), а также цикория является напитком дешевым, невкусным и некачественным. Для приготовления цикорного кофе берут корни этого растения, высушивают, размельчают и немного поджаривают. Ср., например, в рассказе Бунина «Братья» (1914), где не порошок суррогатного кофе сравнивается с кладбищенской землей, а, напротив, запах земли с запахом кофе: «Колясочки накалялись от зноя, тонкие оглобли их лежали на темно-красной разогретой земле, пахнущей и нефтью, и так, как пахнет теплый от размола кофе». Ср. также ст-ние Пастернака «Город» (1916): «Навстречу курьерскому, от города, как от моря, / По воздуху мчатся огромные рощи. / Это галки, кресты и сады, и подворья / В перелетном клину пустырей. / Все скорей и скорей вдоль вагонных дверей, / И — за поезд / Во весь карьер. / Это вещие ветки, / Божась чердаками, / Вылетают на тучу. / Это черной божбою / Бьется пригород Тьмутараканью в пахучей. / Это Люберцы или Любань. Это гам / Шпор и блюдец, и тамбурных дверец, и рам / О чугунный перрон. Это сонный разброд / Бутербродов с цикорной бурдой и ботфорт». Стоит также отметить, что подпольные изготовители дешевых заменителей кофе не гнушались такими добавками, как «кора некоторых деревьев, кофейная гуща (спитой кофе), земля, глина, песок, торф и проч.» (Простейшие и общедоступные способы исследования и оценки доброкачественности съестных припасов, напитков, воздуха, воды и жилищ д-ра П. О. Смoлeнского, 1892). О мотиве кофе в «ЕМ» ср. фр. № 14 и др. № 218. В Москве он остановился в гостинице «Селект» — Адрес гостиницы был: Большая Лубянка, д. 21, то есть мы имеем дело с очередным пространственным смещением (у О. М. — «на Малой Лубянке»). Поселяя бывшего ротмистра Кржижановского именно в «Селекте», О. М., вероятно, намекал на возможный следующий этап его карьеры: с 1918 г. «Селект» стал гостиницей ВЧК. Ср., например, в мемуарной книге Г. Агабекова «ЧК за работой» (1930): «Со времени приезда из Персии я жил в гостинице “Селект” на Сретенке, которая содержалась на средства ГПУ и обслуживалась чекистами». Ср. также в «Мемуарах» Э. Герштейн о случайном знакомом: «Он хотел встретиться со мной в Москве. Хвастал гостиницей, где всегда останавливался — на Сретенке, “Селект”. Я не понимала, что это за гостиница “с зеркальными окнами”, что ему особенно импонировало. <…> Это были гепеушники! Вот откуда гостиница “Селект”, это их пристанище в Москве, как я потом узнала». Еще ср. во «Второй книге» Н. Мандельштам: Нам сказали, что эта гостиница в первые же дни была забрана для работников Лубянки. Не гвардейцы и банкиры были чужды Мандельштаму, а тот биологический тип, из которого формируются власть и деньги при любом режиме. Дело даже не в том или ином государственном строе. У каждого из них достаточно преступлений, чтобы навеки отвернуться от любого. Для того чтобы отвернуться, вовсе не требуется нашего масштаба преступлений, которые превзошли все, что когда-либо происходило на этой земле. Самое существенное в том, какие люди, ротмистры Кржижановские, получают оптимальные условия для расцвета заложенных в них качеств. Не мешает подумать, какие нужны были качества для того, чтобы выдвинуться в двадцатые и тридцатые годы. Эпитет «шикарной» (витрины) есть перевод названия гостиницы, где поселился Кржижановский. В столь же ироническом контексте он был употреблен в позднейшей «Четвертой прозе» (1930) О. М.: Я пришел к вам, мои парнокопытные друзья, стучать деревяшкой в желтом социалистическом пассаже-комбинате, созданном оголтелой фантазией лихача-хозяйственника Гибера из элементов шикарной гостиницы на Тверской, ночного телеграфа или телефонной станции, из мечты о всемирном блаженстве, воплощаемом как перманентное фойе с буфетом, из непрерывной конторы с салютующими клерками, из почтово-телеграфной сухости воздуха, от которого першит в горле (3: 170). |