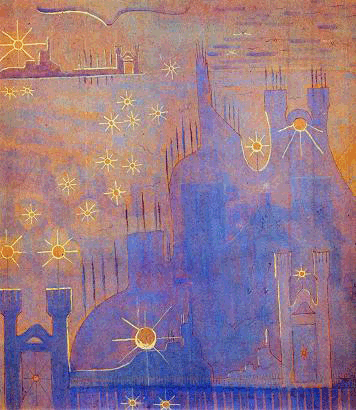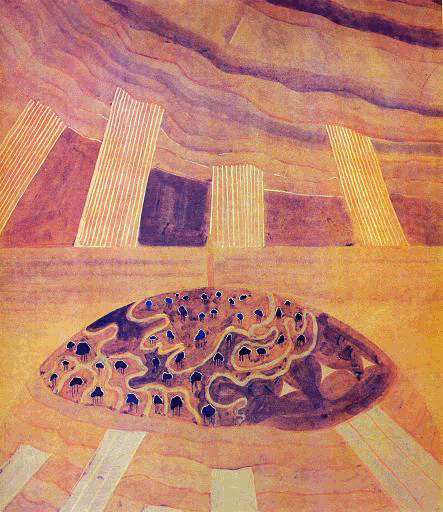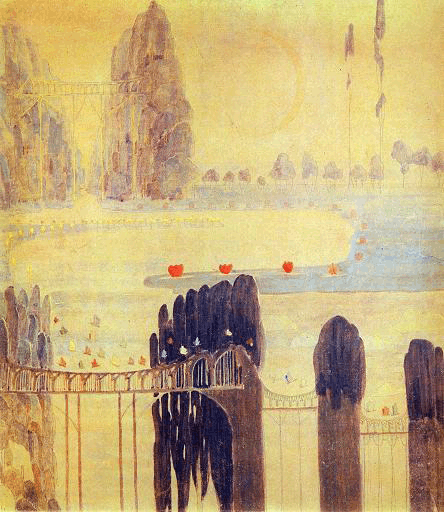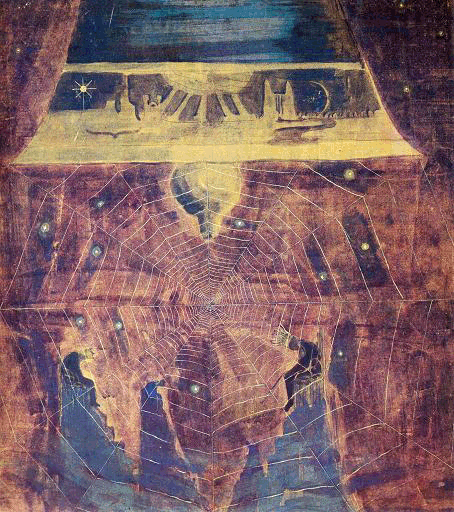Воложин С.
Тютчев и... модернисты, мнимые и настоящие
Глава 2
Правота
и ошибки Брюсова
Воложин С. Тютчев и... модернисты, мнимые и настоящие (рукопись). – Одесса, 1995.
К оглавлению книги.
И его «открыл»
сверхисторический оптимист (это значит
– пессимист) символист Брюсов.
Однако Брюсов представил
всего Тютчева поэтом, подобным символистам,
– сверхисторическим оптимистом.
Как это ему удалось?
Пантеизм
– таки путь из неверия к вере, но у
Тютчева он – лишь одна из личин
Свою статью о Тютчеве
Брюсов начал с того же
С. 31
стихотворения
– «По дороге во Вщиж» – и нарек Тютчева
пантеистом: «Подлинное
бытие имеет лишь природа в ее целом». А пантеизм это же граница
между верой в сверхъестественное и неверием.
То есть некоторым образом – все же вера.
Если под видом пантеизма начинается уход
из религии, под видом пантеизма же в религию
начинают возвращаться из атеизма. Религии
же нынешние (религии спасения) – это одно
из воплощений сверхисторического оптимизма.
А тот имеет дело со сверхреалиями. И тут
– широкое поле для символиста, умеющего,
вопреки всему, сверхреалии все-таки отображать
и выражать. И – Брюсов разбежался:
«...видит Тютчев в явлениях
природы... нечто высшее... нечто божественное,
святое. Весну он прямо называет «божеством»
(«Как ни гнет рука судьбины»). Так же
«божествами родными» называет он горные
вершины. Монблан кажется ему «откровеньем
неземным»; во вспышках зарниц угадывает
он решение какого-то «таинственного
дела»; даже осенняя дремота засыпающего
перед зимой леса представляется ему «вещей».
Вот почему «непорочные лучи» звезд противопоставляет
он «смертным взглядам» людских безумных
толп; вот почему высоты, на которых «смертной
жизни места нет» и где «слышна лишь жизнь
природы», считает он странами более «чистыми»,
нежели наш мир, – странами, где витают «ангелы»
(«Над виноградными холмами», «Хоть я
не свил гнездо в долине»). Вот почему
также странник, который отдался миру
природы, становится ли-
С. 32
цом священным, «гостем
благих богов».»
Доказательно. Правда?
Нет
пантеизма в единственном искреннем
произведении Тютчева
Но почему надо
пантеистическим считать стихотворение
«По дороге во Вщиж»?
К Богу стремятся
– как к счастью. К одухотворенной природе
– тоже. Высокий, соборный идеал, относящийся
плохо к индивидууму, к частному, – все-таки
есть идеал. А к идеалу не могут обращаться
иначе, как восторженно.
А разве есть не
то, чтоб восторг, а хоть тень всеобще-позитивного
в стихотворении «По дороге во Вщиж»?
Миротворная – разве что – бездна?.. Так
и то: не позитивное здесь, а нейтральное,
не положительное, а нулевое.
Так пантеист не
пишет.
Брюсов в своем
разборе не прошел мимо этого принципиально
важного в творчестве Тютчева произведения.
Но обвел с ним нас, как вокруг пальца:
«Подлинное бытие имеет
лишь природа в ее целом. Человек – лишь
«греза природы». Его жизнь, его деятельность
– лишь «подвиг бесполезный». Вот философия
Тютчева, его сокровенное миросозерцание.
Этим широким пантеизмом объясняется
едва ли не вся его поэзия».
Но ведь на самом-то
деле (взгляните в текст!) это не природа,
а люди сознают самих себя лишь грезою
природы. Так зачем же Брюсов наделил природу
умением грезить? Тютчев этого не делал.
Можно, правда, сказать, что по Тютчеву
природа «приветствует». Но это ж
троп, в литературных целях перенесение
на природу свойства человека. А применен
он нарочно, ради контраста: «равно приветствует».
С. 33
Это осознающий
человек ради издевательства над собой
применил троп, а не природа – одушевленна.
Точно так же не она расценивает существование
кого бы то ни было как «подвиг бесполезный»
(а можно именно ее заподозрить по пантеистическому
смыслу высказывания Брюсова). На самом
деле тут опять оценивающий человек оценивает.
Никакого пантеизма,
одушевления природы в сути стихотворения
«По дороге во Вщиж» – нет.
Брюсов
нарек предсимволистом Тютчева, когда
тот являлся под маской предимпрессиониста
А у Брюсова далее
(цитирую), после точки, хоть и с нового
абзаца, но непосредственно после, т. е.
как бы продолжая логику (а логики, вы видели,
как раз и не было), сделан следующий обманный
(самообманный?) ход:
«Вполне понятно, что
такое миросозерцание прежде всего приводит
к благоговейному преклонению перед жизнью
природы».
И Брюсов приводит
названия стихов, воспевающих «стихийную
жизнь» природы.
То есть речь там о чем-то довольно низком
по сравнению с одухотворенностью. Но
Брюсов стихи не цитирует. А слова «стихийная жизнь» предваряет словами «проникновение в тайны». Получается нечто высокое: «проникновение в тайны стихийной
жизни». И между «благоговейным преклонением
перед жизнью природы»
и «стихийной жизнью» вставляет цитату из
Тютчева, действительно имеющую отношение
к одухотворенности природы:
В ней есть душа,
в ней есть свобода,
В ней есть любовь,
в ней есть язык! –
В природе.
Однако, разве к
душе, языку, любви имеет отношение стихийная
жизнь? Имеет: как имеет отношение
С. 34
идеал высокий к
идеалу низкому – оба идеалы.
Теперь возьмем
любое из названных Брюсовым стихотворение
о стихийной жизни природы (возьмем самое
«сверхъестественное») и посмотрим, есть
ли там пантеизм, сверхъестественное без
кавычек, теистическое, божественное,
то бишь высокое:
Чародейкою Зимою
Околдован лес
стоит –
И под снежной
бахромою,
Неподвижною,
немою,
Чудной жизнью
он блестит.
И стоит он, околдован,
-
Не мертвец и не
живой –
Сном волшебным
очарован,
Весь опутан, весь
окован
Легкой цепью
пуховой...
Солнце зимнее
ли мещет
На него свой луч
косой –
В нем ничто не
затрепещет,
Он весь вспыхнет
и заблещет
Ослепительной
красой.
31 декабря
1852
Написано в последний
день года. Сегодня ночью – Новый Год. Будущее...
А Тютчеву хоть бы хны.
Вспоминается, что
писал Белинский о Новом Годе:
«Кто в самом себе не
носит источника жизни, то есть источника
живой деятельности, кто не надеется на
себя, – тот вечно ожидает всего от внешнего
и случайного. И вот причина чествования
Нового года. Люди убеждены, что только
в новом году они могут быть счас-
С. 35
тливы. О том, достойны
ли, способны ли они быть счастливы, им
и в голову не приходит.
Еще те, которые ждут
своего счастья от денег, от материальных
выгод, могут быть правы: не удалось в прошлом
году – авось удастся в будущем! Притом
же люди этого сорта деятельны и крепко
держатся пословицы: «На Бога надейся,
сам не плошая». Но романтические ленивцы,
но вечно бездеятельные или глупо деятельные
мечтатели думают об этом иначе».
Если соотнести
это с удовлетворенным лирическим «я»
только что процитированного стихотворения,
то ясно, уж какой он здесь ни есть, но только
не мечтатель, улетающий в неведомое, а
потому таинственное будущее, мистическое,
пантеистическое.
Тютчев здесь не
символист, а импрессионист. Певец прелести
мгновенного впечатления. Безветрие, солнце
показалось из-за облака, а неподвижность
не изменилась, лишь красивее стала. И
хоть миг этот преходящ, но, остановленный
художником навеки, он прекрасен. То, что
не удалось мечтающему Фаусту, удалось
лирическому «я» Тютчева и удавалось
импрессионистам.
А что такое импрессионизм?
Это ровесник империализма, апогея концентрации
капитала, нового скачка (по крайней мере
поначалу) производительности труда и
общего уровня жизни вступившего в империализм
человечества как такового. Импрессионизм
– ровесник империализма в фазе прогресса
(как бы прогресс ни был (по Марксу) аморален
– ибо развивая богатство человеческой
природы как таковой он,
С. 36
прогресс, пока
не мог развивать это богатство во всех
индивидах). Так вот импрессионизм отражал
(своим языком) позитивную сторону современного
ему прогресса, а вследствие аморальности
тогдашнего прогресса – импрессионизм
не брал предметом своего отражения человека:
все брал природу да ее мгновения останавливал
(даже женщины Ренуара это больше природа,
чем собственно человек).
Вот так же и удовлетворенный
Тютчев.
Стихи удовлетворенного,
довольного действительностью Тютчева
это нижний изгиб бесконечной, в веках
повторяющейся Синусоиды идейно-художественного
движения истории искусства.
Берем любое творение
«низкого» Тютчева, и каждое – «по-низкому»
прекрасно.
Весенняя
гроза
Люблю грозу в
начале мая,
Когда весенний
первый гром,
Как бы резвяся
и играя,
Грохочет в небе
голубом.
Гремят раскаты
молодые,
Вот дождик брызнул,
пыль летит,
Повисли перлы
дождевые,
И солнце нити
золотит.
С горы бежит поток
проворный,
В лесу не молкнет
птичий гам,
И гам лесной и
шум нагорный –
Все вторит весело
громам.
Ты скажешь: ветренная
Геба,
Кормя Зевесова
орла,
Громокипящий
кубок с неба,
Смеясь, на землю
пролила.
1828, 1854 гг.
С. 37
«Ты скажешь», –
пишет Тютчев. В смысле: «А я не скажу.
Я не язычник, а пантеист»? Так? – Да нет
– смысл другой: «А я не скажу. Я атеист»?
В прежние времена
одухотворенность без религиозности почти
не мыслилась, Тютчев же здесь, хоть момент
и не один, а два – с перерывом в 26 лет – поет
гимн чувственности, а не какому бы то
ни было богу.
И даже то, что могло
б быть грустным, т. е. более вероятно, что
– одухотворенным, то все равно оказывается
чувственно-прекрасным, красивым:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная
пора –
Весь день стоит
как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Где бодрый серп
гулял и падал колос,
Теперь уж пусто
все – простор везде,
Лишь паутины
тонкий волос
Блестит на праздной
борозде,
Пустеет воздух,
птиц не слышно боле,
Но далеко еще
до первых зимних бурь –
И льется чистая
и теплая лазурь
На отдыхающее
поле...
22 августа
1857 г.
Не удивительно
было бы, помня импрессионистские наклонности
удовлетворенного Тютчева, если б он не
только месяц и день, но и час обозначил
и минуту...
И это очень многозначительно.
Потому что в другую минуту, в другой день
Тютчев мог быть совсем другим, совсем
не удовлетворенным. Потому что
С. 38
всегда-то он был
крайне разочарованным. А личину одевал
то низкого импрессиониста, то высокого
символиста.
И вовсе не нужно
было Брюсову натягивать на Тютчева символизм,
когда тот в какие-то мгновения символистом
не был.
Именно потому,
что он не был ни тем, ни другим, он мог
притворяться и тем и другим. Гениально
притворяться. (Применять термины «импрессионизм»
и «символизм», я настаиваю, можно к Тютчеву,
потому что изгибы Синусоиды в чем-то подобны
на всех ее периодах.)
Правду сказать,
Брюсов применил-таки термин «импрессионизм»
к Тютчеву. Он же не мог пройти совсем уж
мимо истины. Но даже применив термин,
он придал ему символическую окраску:
«Пушкин умел определять
предметы по их существу; Тютчев стремился
их определять по впечатлению, какое они
производят в данный миг. Именно этот прием,
который теперь назвали бы «импрессионистическим»,
и придает стихам Тютчева их своеобразное
очарование и магичность».
Магичность. Это
слово вполне в духе символизма, устремленного
к запредельному.
Но применять его
можно... в увлечении.
Вон куда как низко
было искусство бытовой фламандской живописи
ХVII века (жратва – в натюрмортах, попойки
– в жанре, быки и коровы, обычные деревья,
поля и дома – в пейзаже), а Гегель утверждал
же, что это не реализм, а романтизм: глубокая
суть, мол, фламандской живописи – вовсе
не изображение объек-
С. 39
тивной жизни, быта,
а чувство гордости нации, победившей
жизнь, овладевшей внешними благами.
Разве
может быть символист полным
отрицателем жизни
Еще одну правду
сказать, Брюсов потом признает-таки наличие
двух Тютчевых:
«Это – второй полюс миросозерцания
Тютчева. Отправляясь от принятия всех
проявлений жизни, от восторженного «пристрастья»
к матери-земле, Тютчев кончает как бы
полным отрицанием жизни».
Так-то это так.
Только раньше, как я уже показал, Брюсов
подстроил, будто восторженное пристрастие
к матери-земле это пантеизм, нечто возвышенное.
И тогда, получается, что у Тютчева миросозерцание
хоть и двухполюсное (приятие и отрицание
жизни), но, как у U-образного магнита: оба
полюса находятся на одинаковой символистской
высоте.
Все бы хорошо: улучшил,
извиняюсь, я – Брюсова, распрямил двухполюсное
миросозерцание Тютчева... Да вот как быть
со сверхисторическим оптимизмом символизма
в применении к черному-пречерному (по
Брюсову) тютчевскому символизму?
В случае с упоминавшимся
символистом Чюрленисом к его сверхисторическому
оптимизму (я, когда разбирался с Чюрленисом,
этого термина для себя еще не выработал)
я пришел стихийно, анализируя главное
его финитное произведение «Сонату солнца»:
<<...Подспудны
и невнятны признаки отдаленного конца
мира. Не каждому дано их увидеть – лишь
самым чутким.
И «Соната солнца»,
похоже, вся-вся проникнута таким же тайным
и таким же тяжелым переживанием.
С. 40
С. 41
С. 42
С. 43
С. 44
Что бы ни чудилось
в последовательности из четырех картин
этого цикла: молодость, зрелость, старость,
смерть личности или человечества, – весна,
лето, зима, утро, день, вечер, ночь в природе
или в духовном мире, в искусстве или религии,
– какой бы сюжет на тему «Развитие» ни
навевали нежные, затем контрастные, бледные
и, наконец, мрачные краски «Аллегро»,
«Анданте», «Скерцо» и «Финала», – а
все же не только расположение траурного
«Финала» в конце серии влияет на восприятие
предыдущих картин да и всего цикла в целом.
В первой части
можно разглядеть уже знакомую вещунью,
и не одну... можно узреть недобро и предупреждающе
поднятый указательный палец «Дня», и
не один... А другие строения, вспомните,
это ж фрагменты стенающего города из
«Похоронной симфонии»...
Во второй – то же.
На иной взгляд тут происходит что-то сомнительное:
в каких-то космических тучах тонут Солнце
и Земля. А макушка земного шара, подумается
порой, выглядит могильным холмиком – даже
свеча (как принято делать у христиан в
день поминовения усопших), зажженная
свеча воткнута в землю... И так-то она незаметна,
свеча, что и лучи-то ее кажутся причудливо
преломившимися солнечными...
О третьей части
можно сказать, между прочим, что изображено
на ней неполное солнечное затмение, раз
уж солнце вынесено в
С. 45
название цикла.
Затмение и логически оправдывалось бы
– новое закрывание солнца от земли... И
это второе застилание опять не замечаемо
нечуткими. Не очень-то потемнело в окрестности,
и не смыкаются – как вечером – лепестки
цветов. Как ни в чем не бывало, ведут себя
бабочки. Это, наверно, не однодневки: они
летят, заметьте, все в одном направлении.
В Литве, бывает, видят люди подобное явление
– это миграция. От северной Африки до Скандинавии
и обратно совершают перелеты столь хрупкие
и, казалось бы, чувствительные существа.
Летят они и вечерами – пока не стемнеет
совсем. Что им неполное солнечное затмение!
Жизнь идет по-прежнему...
И даже сам траур
«Финала» незаметен для человечества:
оно устало, достигнув величайшего могущества
и власти, оно уснуло, покорив вершины
познания. Дальнейшее развитие кончилось...
в апогее. Наступило извечное и давно предрекаемое:
абсолютный покой.
Это все – как в диалектике
идеалистов и полуеретических мистиков
(у первых – превращения абсолютной идеи,
у вторых – Бога): Бог един в трех лицах
– Бог-отец, Сын Божий и Бог как дух святой.
(Их знамения – звезды, солнце и три исходные
стихии – присутствуют в разбираемом цикле.)
И вот всякая вещь в мире подобна, мол,
этой троичности Бога. Но как бы ни различались
состояния вещей и лица Бога, моменты единого
– с приматом Бога-отца –
С. 46
положены в их различии.
Поэтому картина
мира как некое развертывание существа
Бога, начинаясь с единого, в конце концов
через познание Бога и его сущности возвращается
в лоно целого, в сферу полноты, а вместе
с тем и абсолютного покоя.
Бог-отец, этот источник
всего, от вечности пребывает неизменным...
И как поразительно
созвучны этой абстракции, кажется, все
детали «Финала» «Солнечной сонаты»!
Звезды... Паутина и тишина абсолютной
неподвижности... И всевключающая полнота
– это присутствие всего сущего на фризе
колокола... И всепроникающее единство
разнообразия этого сущего – изображены-то
на колоколе только ипостаси и вестники
абсолютного покоя... сна... смерти... траура:
страшная птица-вещунья, поднятый указательный
палец, каменный кричащий рот, молящие
руки и по-разному затмеваемое солнце.
А в естественнонаучных
понятиях такому финалу и подходу к нему
соответствует постепенное затухание
нашего Солнца, источника жизни на Земле, –
потухание, о котором ни раньше, ни сейчас,
ни в обозримом будущем люди практически
не думали, не думают и не подумают и которого
практически не замечают.
Есть авторы, которые
пишут, что в «Финале» «Сонаты солнца»
– не абсолютная безнадежность. Но лучше,
наверно, будет сказать, что сам художник,
вероятно, питал какие-то надежды относительно
человечества, раз так
С. 47
беспощадно проводил
через свое сердце мысль о конце концов.
Надеялся выстоять в этом искусе и тем
утвердиться в своей тайной вере, внушавшей
сомнения...
«Все сущее – увековечить,
безличное – вочеловечить», – писал Александр
Блок, современник Чюрлениса и такой же,
как Чюрленис, могучий выразитель своей
эпохи средствами символического искусства.
Верить: хоть смутно, последним тайником
души, вопреки всему – верить в провидение
– было характерным для тех лет. Чюрленис,
к тому же, был не чужд, в какой-то мере,
религиозности, а христианство имеет тысячелетнюю
традицию именовать Бога душой мира, изображать
мир как круговорот божественной доброты
и любви...>>
Вот так и был приведен
символист Чюрленис к сверхисторическому
оптимизму, не названному. Худо-бедно,
но приведен. И, думаю, судите сами, там
не было натяжки.
А как быть с Тютчевым-полным-отрицателем-жизни
(как характеризует его Брюсов)?
Перечень стихов,
на которых Брюсов основывает такой вывод
следующий: «Безумие», «Близнецы», «Mal'aria»,
«Две силы есть – две роковые силы», «Проблеск»...
Беру в любом порядке.
Проблеск
Слыхал ли в сумраке
глубоком
Воздушной арфы
легкий звон,
Когда полуночь,
ненароком,
Дремавших струн
встревожит сон?..
То потрясающие
звуки,
С. 48
То замирающие
вдруг...
Как бы последний
ропот муки,
В них отозвавшийся,
потух!
Дыханье каждое
Зефира
Взрывает скорбь
в ее струнах...
Ты скажешь: ангельская
лира
Грустит, в пыли,
на небесах!
О, как тогда с
земного круга
Душой к бессмертному
летим!
Минувшее, как
призрак друга,
Прижать к груди
своей хотим.
Как верим верою
живою,
Как сердцу радостно,
светло!
Как бы эфирною
струею
По жилам небо
протекло!
Но ах, не нам его
судили;
Мы в небе скоро
устаем, –
И не дано ничтожной
пыли
Дышать божественным
огнем.
Едва усилием
минутным
Прервем на час
волшебный сон,
И взором трепетным
и смутным,
Привстав, окинем
небосклон, –
И отягченною
главою,
Одним лучом ослеплены,
Вновь упадаем
не к покою,
Но в упоительные
сны.
<не позднее
1825 г.>
Я уже давно считаю,
что дата – одна из структурных составляющих
произведения.
До 25 декабря 1825
года написан «Проблеск», до восстания
декабристов – да простят меня враги
С. 49
вульгарного социологизма.
Я, ей-Богу, не буду вульгарен. Судите сами.
Только мне надо
будет зайти издалека.
Берковский писал:
«...Тютчев начинает литературную
жизнь среди европейских революций 20-х
годов, сделавших кризис Реставрации...
[Монархии Бурбонов
во Франции, а в чем-то и дворянских феодальных
привилегий не только во Франции.]
...несомненным, хотя Реставрация
и выстояла против них. Нас не должны смущать
непосредственные политические высказывания
Тютчева, холодные и вялые слова, написанные
по поводу «Вольности» Пушкина, едва
ли дружелюбные строки, обращенные к декабристам.
Тут перед нами не весь Тютчев, не самый
бесспорный. Тут больше биографии Тютчева,
чем поэзии его. Всем лучшим составом своей
души Тютчев стоял в родственно близких
отношениях к неспокойствию и тревоге,
господствовавшим тогда в Европе. Осознавал
то Тютчев или нет, но именно Европа, взрытая
революцией 1789 года, воодушевляла его
поэзию.
Когда мы утверждаем,
что перед Тютчевым созидался новый социальный
мир – мир буржуазии, с ее цивилизацией,
с ее формами сознания, с ее эстетикой
и нравственностью, – то нужна оговорка...
Не столь важно как они
[современники] его [мир] называли
сами. Важно, что имя пришло не сразу, оставляя
простор ожиданиям, обещаниям, надеждам.
Каза-
С. 50
лось, что возник на месте
учреждений старого режима мир неслыханно
прекрасный и свободный. Проходили годы
и десятилетия, прежде чем стало ясным,
насколько неслучайны границы, в которые
заключило себя новосозданное общество,
границы, узость которых ощущалась уже
вначале...»
Вот это негативное,
чувствуемое еще вначале, и определило
Тютчева. Он был провидец (как Пушкин, например;
тот в декабризме разочаровался еще до
восстания и поражения декабристов). И
Берковский не прав в создании позитивной
ауры, написав про Тютчева: «Перед
ним расстилалась романтическая, становящаяся
Европа, и он знал также Европу ставшую,
отбросившую романтизм...»
Тютчев еще умнее. Он все-все предвидел
еще в зародыше. Еще в 1816 году, тринадцатилетним
мальчиком, он уже написал:
...Новый
год!..
Предшественник
его с лица земли сокрылся,
И по течению вратящихся
времен,
Как капля в океан,
он в вечность погрузился!
Сей год равно
пройдет!.. Устав небес священ...
О Время! Вечности
подвижное зерцало!-
Все рушится, падет
под дланию твоей!..
Сокрыт предел
твой и начало
От слабых смертного
очей!..
Очи Тютчева, кажется,
слабыми не были. И оттого он то увидел
и тогда (так рано), что, увидев, прикрыл
их на всю жизнь – до «По дороге во Вщиж»,
и прикрыв, видел сквозь ресницы по своему
произволу, т. е. сочинял то просто жизнерадостные,
оптимистичные стихи (соответствующие
– по Берковскому –
С. 51
созидающемуся
новому буржуазному миру начала ХIХ века,
или – по-импрессионистски – созидающемуся
империалистическому миру конца ХIХ века),
то Тютчев сочинял очень непросто оптимистические
стихи: сверхисторически оптимистические,
т. е. если попросту – пессимистические.
А в тех и других – прятал себя настоящего:
катастрофически, до равнодушия, пессимистического.
А чтоб уметь прятаться
в сверхисторического оптимиста (пессимиста)
– нужно было как минимум видеть, как кто-то
круто обжегся. Вот, в частности, на тех,
сплошь провалившихся европейских революциях
20-х годов, посленаполеоновских, Тютчев
и приобрел опыт разочарования, столь
необходимый для залетов в символистское
далёко. Декабристы же выступили, кажется,
последними по времени. Вот она – значимость
даты «Проблеска».
И теперь можем
посмотреть сам «Проблеск».
В чем там разочарование?
– В будущем. А сверхбудущее, как ни немыслимо
в него попасть (на то оно и сверхбудущее),
выглядит довольно привлекательно.
Идем по тексту.
«Воздушной арфы легкий звон» – это
настоящее, будущее или сверхбудущее?
Воздушная арфа, ангельская лира – атрибут
сверхбудущего, но в настоящем он влечет
жалкое существование: «грустит в пыли».
Потому ее звуки «потрясающие»,
«как бы последний ропот муки». «Зефир»
– будущее. Оно зовет из настоящего в небо
«скорбью в ее струнах». Но Зефир-будущее
обманывает, предчувствуем мы: «мы в
небе скоро устаем». Ну, а если б что-то
произошло (в немыслимом сверхбудущем
немыслимое могло б и случиться) и мы б
(сверхбудущие мы) перестали б
С. 52
быть «ничтожной
пылью»? Что тогда бы было? «Бессмертное»,
«дышание божественным огнем», было
б «сердцу радостно, светло». Вот
оно какое, сверхбудущее, в которое из
сегодня не попасть.
Конечно, сверхисторический
оптимизм очень похож на пессимизм. В сверхисторический
попасть не дано. Ну никак. Но нюанс, отличающий
от наипоследнего пессимизма, все же есть.
Это сегодня и завтра – никак. И никто
не знает, когда будет известно
как. Факт лишь (да! факт!), что если будет,
то будет это сверхбудущее прекрасным.
Так что я не могу
согласиться с Брюсовым, что тут Тютчев
полностью отрицает жизнь. Жизнь настоящую
и будущую – да, полностью. А сверхбудущую?
Нечего было б расписывать Нечто, недоступное
абсолютно. Есть мы – пыль. Но есть и бессмертное
и радостное, раз мы о нем узнали.
И не упрекайте
меня, что с «Проблеском» я не обыграл,
как обыграл с «Весенней грозой» отмежевывающееся
«Ты скажешь». Но ведь в «Грозе» и
боги языческие, чувственные, и момент
бражный взят, и вообще это нескрываемый
литературный привесок к пейзажной живописи
словом, добавочное украшение. А в «Проблеске»
«меня» «ты» убедил-таки в небесном
происхождении разбудившего «меня»
звука. Так построил стихотворение автор.
Даже
любовь к смерти это
не полное жизнеотрицание, если
она – ради остроты жизни
Возьмем теперь
еще что-нибудь из брюсовского списка.
Близнецы
Есть близнецы
– для земнородных
Два божества, –
то Смерть и Сон,
Как брат с сестрою
дивно сходных –
С. 53
Она угрюмей, кротче
он...
Но есть других
два близнеца –
И в мире нет четы
прекрасней,
И обаянья нет
ужасней,
Ей предающего
сердца...
Союз их кровный,
не случайный,
И только в роковые
дни
Своей неразрешимой
тайной
Обворожают нас
они.
И кто в избытке
ощущений,
Когда
кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших
искушений –
Самоубийство
и Любовь!
<не позднее
начала 1852 г.>
Есть тут и «божество»
и «неразрешимая тайна», а все-таки
тут уже совсем другой Тютчев – любитель
пожить, любитель острых ощущений, любострастник.
«В избытке ощущений»... «кипит и
стынет кровь»... Конечно, тут не фламандская
жратва. Впрочем, и та была – прямо царская,
на серебре... Даром, что всего лишь мещан
услаждала. Ну а если низкий идеал у дворянина?
Дмитрия Карамазова, скажем, которому
по воле Достоевского нравился Тютчев
за чувственность...
Замечательно написал
Белинский: «... но уничтожьте
эту возможность в одну минуту потерять
данное целою жизнию – и где ж величие и
святость жизни... О, без трагедии жизнь
была бы водевилем, мишурною игрою мелких
страстей и страстишек, ничтожных интересов,
грошовых и копеечных помыслов...»
Это – низкое, конечно,
повыше фламандской жи-
С. 54
вописи. Но и нечего
ждать одинаковых амплитуд низкого в Синусоиде
искусства. А точнее, – скажу я теперь,
через годы, – здесь субнизкое, вылет вон
с Синусоиды идеалов вниз, демонизм, ницшеанство.
И опять
нет полного жизнеотрицания
Безумие
Там, где с землею
обгорелой
Слился, как дым,
небесный свод, –
Там в беззаботности
веселой
Безумье жалкое
живет.
Под раскаленными
лучами
Зарывшись в пламенных
песках,
Оно стеклянными
очами
Чего-то ищет в
облаках.
То вспрянет вдруг
и, чутким ухом
Припав к растреснутой
земле,
Чему-то внемлет
жадным слухом
С довольством
тайным на челе.
И мнит, что слышит
струй кипенье,
Что слышит ток
подземных вод,
И колыбельное
их пенье,
И шумный из земли
исход!..
<1830 г.>
Здесь совсем символистский
Тютчев. Ничего себе «жалкое» – оценка
безумия, когда оно так заинтересовано
описано. Я вполне согласен с Брюсовым:
«Наконец, в стихах о
«безумии» есть темное влечение к этому
состоянию души, которое хотя и названо
«жалким», но при котором все же есть
возможность «мнить», что слышишь, угадываешь
тайную жизнь природы...»
А ведь это – к вопросу
о непостижимости мира, крайнем пессимизме.
И «...все же...»– говорит Брюсов. Вот
вам и пессимизм.
Но предположим,
что я у Брюсова вычитал, что
С. 55
хотел. А на самом
деле эта цитата значит вот что: у Тютчева,
мол, безумец лишь думает, что чует воду;
а на самом деле ничего такого нет. Постижения
тайны нет.
Однако, извините
за грубость: этот якобы экстрасенс давно
бы умер в пустыне от обезвоживания. А
дело представлено в стихотворении так,
что он там живет и живет... Значит, ему
не только чудится, но, бывает, и действительно
найти воду удается.
Ну, ладно. Я извиняюсь.
Но если и не находит... Тогда персонаж
живет буквально святым духом. И, получается,
как ни отрицает Тютчев ужасные настоящее
и будущее, но что-то вообще немыслимое
– все-таки он утверждает. И я опять не согласен
с Брюсовым, что Тютчев полностью отрицает
жизнь.
И опять
Берем следующее
на выбор из брюсовского перечня:
Две силы есть
– две роковые силы,
Всю жизнь свою
у них мы под рукой,
От колыбельных
дней и до могилы, –
Одна есть Смерть,
другая – Суд людской.
И та и тот равно
неотразимы,
И безответственны
и тот и та,
Пощады нет, протесты
нетерпимы,
Их приговор смыкает
всем уста...
Но Смерть честней
– чужда лицеприятью,
Не тронута ничем,
не смущена,
Смиренную иль
ропщущую братью –
Своей косой равняет
всех она.
Свет не таков:
борьбы разноголосья –
Ревнивый властелин
– не терпит он,
С. 56
Не косит сплошь,
но лучшие колосья
Нередко с корнем
вырывает вон.
И горе ей – увы,
двойное горе, –
Той гордой силе,
гордо-молодой,
Вступающей с
решимостью во взоре
С улыбкой на устах
– в неравный бой.
Когда она при
роковом сознанье
Всех прав своих,
с отвагой красоты,
Бестрепетно,
в каком-то обаянье
Идет сама навстречу
клеветы,
Личиною чела
не прикрывает,
И не дает принизиться
челу,
И с кудрей молодых,
как пыль, свевает
Угрозы, брань
и страстную хулу, –
Да, горе ей – и
чем простосердечней,
Тем кажется виновнее
она...
Таков уж свет:
он тем бесчеловечней,
Где человечно-искренней
вина.
Март 1869
г.
Ну что? Здесь, наконец,
может, Брюсов прав? Здесь Тютчев является
жизнеотрицателем? И, значит, смертевоспевателем?
Смерть – вон – с большой буквы пишет. Хвалит
ее (за честность, за нелицеприятие)... И
вон – другую роковую силу тоже с большой
буквы пишет... И хоть не хвалит ее, зато
восторгается ведущим себя так, что навлекает
на себя гибель от этой другой роковой
силы... То есть, опять же, хвалит антижизнь...
Прав Брюсов?
Да нет же! Тут опять,
как с «Близнецами»: жизнь в ценности
повышается, когда смерть рядом. Смерть
ценна как катализатор, тот в химической
реакции не участвует, но усиливает ее.
С. 57
Возразите, что
лирический герой в последнем стихотворении,
мол, вовсе так и не переживает: живет себе,
как живется, ест, что вкусным кажется,
и если вкусны ему острые блюда, то не опасностью
отравиться, а просто своим вкусом; видит
цель – и идет к ней напрямик, ни с кем и
ни с чем не считаясь. Возразите? И будете
правы. Только вы не заметили, что главный
герой здесь другой – лирическое «я» автора.
Вот этому-то последнему и нравится наблюдать,
как кто-то нарывается на смерть. Но нравится
не за смертельный исход, а за, мол, красивую
жизнь, какую успевает прожить персонаж
именно в силу того, что опасной дорогой
успевает сколько-то пройти (хоть и не
знает персонаж, что – опасной). Авторское
«я» зато все видит: и опасность, и особую
красоту.
То есть получается,
что опять здесь жизневоспевание, а не
жизнеотрицание. Причем, жизневоспевание
как идеал низкий (в принятой нами системе
«верх-низ»). Не забывайте только, что
идеал субъекта с его, субъективной, точки
зрения низким никогда не кажется. И Тютчеву,
в минуты сочинения этого вот, объективно
низкоидеального стихотворения, – идеал
этой минуты тоже низким ему не кажется.
Тютчев – в роли. И – воспевает. То воспевает,
что – обществу кажется виной.
Правда, общественный
романтизм (на Синусоиде – участок восходящий,
но не как символизм, что с Синусоиды как
бы слетает вон) тоже не чужд эстетизации
порока. Но у граждански романтических
героев она происходит на почве единения
с себе подобными. Общество – против общества.
Общество, еще малое, – против
С. 58
общества, еще большого.
Но хоть и малое – оно все же общество.
У Тютчева же, похоже,
перед нами персонаж – принципиальный
одиночка-антиобщественник, даже не замечающий,
что он – антиобщественник; авторское же
«я» – принципиальный одиночка-антиобщественник,
сознающий свою антиобщественность. И,
значит, – не восходящий тут, как при гражданском
романтизме и символизме, отрезок, а нисходящий.
Может, и вон с Синусоиды вниз слетающий.
Потому «вон»,
что на Синусоиде – приемлемые массами
варианты искусства и идеалы.
Здесь же, у Тютчева
этого вот стихотворения, – проявление
искусства отщепенца, вроде Ницше, восхвалявшего
преступников-титанов времен Возрождения,
в одиночку, открыто и насмерть борющихся
(каждый сам по себе) за объективно субнизкий
идеал, с его «человечно-искренней виной».
Так что символизмом
на этом вылете вон с Синусоиды – и не пахнет.
И нет у Тютчева тут полного отрицания
жизни ни настоящей, ни будущей. Есть утверждение
некой субнизкой, может, и сверхбудущей.
И еще
– жизнелюб
И, по случаю, хочу
заметить: символизму соответствует антииндивидуализм,
сверхличное. Тем не менее я не хочу соглашаться
с Брюсовым, когда он о том же пишет по
поводу стихотворения «Смотри, как на
речном просторе»:
«Предугадывая учение
индийской мудрости, – в те годы еще мало
распространенное в Европе, – Тютчев признавал
истинное бытие лишь у
С. 59
мировой души и отрицал
его у индивидуальных «я». Он верил, что
бытие индивидуальное есть призрак, заблуждение,
от которого освобождает смерть, возвращая
нас в великое «все».
Вполне определенно говорит
об этом одно стихотворение («Смотри,
как на речном просторе»), в котором жизнь
людей сравнивается с речными льдинами,
уносимыми потоком...»
Смотри, как на
речном просторе,
По склону вновь
оживших вод,
Во всеобъемлющее
море
За льдиной льдина
вслед плывет.
На солнце ль радужно
блистая,
Иль ночью в поздней
темноте,
Но все, неизбежимо
тая,
Они плывут к одной
мечте.
Все вместе – малые,
большие,
Утратив прежний
образ свой,
Все – безразличны,
как стихия, –
Сольются с бездной
роковой!..
О, нашей мысли
обольщенье,
Ты, человеческое
Я,
Не таково ль твое
значенье,
Не такова ль судьба
твоя?
<не позднее
весны 1951 г.>
«...жизнь людей сравнивается
с речными льдинами...» Сравнивать-то
Тютчев сравнивает, Брюсов прав. Но только
в том, что сравнивает. Однако, зачем
сравнивает? Разве, чтоб восславить безличное?
Перечитайте стихи, и имеющий глаза да
увидит: не чтоб восславить, а чтоб ужаснуться,
сделал Тютчев свое сравнение. Смотрите,
какой набор слов
С. 60
о безличности:
«неизбежимо тая», «утратив образ»,
«бездне роковой». В этих стихах опять
перед нами Тютчев низкого, индивидуалистического
идеала. Лирический герой задает необольщающий
вопрос... Этим вопросом кончается стихотворение...
Разве не минорная окраска у этого вопроса,
у всего произведения?
А ведь всегда «эмоция дана не как самоцель,
а как ценность: положительная или отрицательная, –
как эмоция, подлежащая культивированию
или, наоборот, подлежащая вытеснению.
Тем самым произведение содержит оценку
эмоций, а значит и идею эмоций» (Гуковский). И если эмоция здесь
отрицательна, то отрицательно и отношение
жизнелюба к безличному, к сверхличному,
к неиндивидуальному.
В общем, Брюсов
больше половины напутал.
Объяснить я это
могу только увлеченностью. Он открыл
предтечу русского символизма (и в этом
он был-таки прав), он предчувствовал, что
в обиход вводит забытого поэта, и какого
поэта!
Ошибок бы не произошло,
если бы Брюсов не иллюстрировал тютчевскими
куплетами и строками свои мысли, а сначала
вникал бы в каждое произведение само
по себе. А он – нет: обошелся общим впечатлением
от творчества...
К оглавлению книги.
|