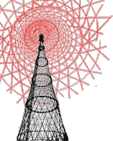 |
Говорит |
Серапионовы братьяПереписка 1922 г.
40. В.А. Каверин – А.М. Горькому (108)
24 сентября 1922, Петроград. 24/IХ 1922. Петербург.
Дорогой и многоуважаемый
Алексей Максимович!
Вы несколько раз упоминали обо мне в письмах к Серапионам, и я решил написать вам, чтобы поблагодарить за память. Спасибо вам сердечное за то, что помните меня и за то, что в меня верите. Это меня очень поддерживает и ободряет, тем более, что за последний год мне часто говорят, что мои рассказы оторваны от жизни, надуманы и т. д. Сейчас в фаворе быт и русская действительность, этакий тугой литературный диалект. И как будто мало в современной жизни всякой фантастики и даже не авантюрной, а именно романтической. А написать – так никто не поверит. И пишу, и не верят. Наконец, можно же писать и не о России даже, но так, чтобы рассказы революционной формой были в соответствии с русской действительностью. Вы простите меня, Алексей Максимович, за то, что я затрудняю вас своим письмом. Я очень хочу прислать вам свои рукописи. За последний год, со времени вашего отъезда я написал 7-8 рассказов. Из них 3 – никуда не годятся, а 4 вышли ничего себе. Если бы я знал, как их вам послать, я бы послал непременно. Их заглавия: «Пурпурный палимпсест», «Щиты и свечи», «Страна геометриков», «Повесть о столяре и рубанке». Последние два – русские и о России. Это не потому, что я сдал мои иностранные позиции (можно всю жизнь писать о той же Германии), а потому, что интересно на русском материале провести какую-нибудь небывальщину. Потом в Берлине в «Алконосте» у С. М. Алянского лежит моя повесть «Пятый странник». Мне очень хочется, чтобы вы прочли всё это, потому что я работал добросовестно и кое-что удалось. А печататься здесь мне совершенно невозможно, и ни одного рассказа, кроме того, что был в Альманахе (109) – я не напечатал ещё. Дорогой Алексей Максимович! Напишите Серапионам, как вы живёте, как здоровы и о чём пишете. В. Б. (110) пишет нам, что очень тоскует. Его жена и сестра с дочкой живы и здоровы. Друзья их и его не забывают и любят по-прежнему. Серапионы также все здоровы, у Федина родилась дочка. Все пишут. Миша Слонимский выпустил книгу «6-й стрелковый». Лунц написал очень интересную трагедию «Бертран де Борн». Зощенко написал «Записки офицера», словом, все работают на совесть. Должно быть, вам обо всём этом пишут другие. На днях я пошлю вам по почте, на риск, рукопись. Почти все рукописи, посланные по почте, пропадают. Может быть, на этот раз дойдет. Всего, всего доброго.
В. Зильбер
Мой адрес: Птгр. Греческий проспект, 15, кв. 18. Тынянову. Чуть не забыл. Я пишу под псевдонимом: В. Каверин. И под этим псевдонимом послал Эренбургу одну статью. У нас было торжественное заседанье памяти Гофмана, и я приготовил речь о нём. Эту речь я и послал Эренбургу. Ну всего доброго. Будьте здоровы
Ваш В. Зильбер
41. Л.Н. Лунц – Н.Н. Берберовой (111)
30 сентября 1922, Петроград .
30 сентября 1922 г. Петербург. «Дом Искусств».
Ниночка!
Сегодня думал о Вас… О, молодость, где ты? Вообще я Вас часто вспоминаю и без поводов. Честное слово! О том, как растрогало меня Ваше письмо, не стоит говорить… Ниночка, я получил милейшее письмо от Горького. Он зовёт меня – в Испанию! С новой яростью захотелось мне уехать. С Литвой я покончил совсем (слава Богу!) (112). Завтра еду в Москву хлопотать – там у меня теперь связи. Может – свидимся. А то мне здесь снова невтерпёж: плохо себя чувствую, хандрю. Хотя с работой обстоит хорошо. Новая моя трагедия произвела фурор (113). Я теперь знаменитый драматург и проч. А с любовью – табак дело. Сердце свободно. И уже скучно. Помните, как я в прошлом году плакал: «хочу влюбиться!» Влюбился – и снова плач: «хочу разлюбить!» Разлюбил, и опять сначала: сказка про попа и собаку. Чудаки мы все порядочные. Вообще: любовь вещь таинственная (какова формула!). Лидочка процветает и грустит. С отцом её, как Вам, наверное, известно, неладно (114). Теперь «воинскую повинность» отбывает с ней Миша Слоним<ский>. Я, как демобилизованный, смеюсь в ус. Коля Тихонов пьёт и рыдает, рыдает и пьёт. Безнадёжно влюблён и поэтому рыдает. Рыдает и поэтому пьёт, пьёт и поэтому безнадёжно влюблён. Славный парень, хоть и прохвост. Миша Слонимский явно стремится к окаменению. Движется минимум, спит максимум. Тоскует и слоняется Слонимский. Называется он теперь, в честь своих именитых предков, «князь Слюняво-Слонимский» (115). У И<ды> я уже не был два месяца. Там – мерзость запустения. «Литературному пролетариату» вход запрещён, бывают только генералы (116). А веселье перекочевало в Дом Искусств на вторники – клуб младенцев устроили (117). Зверски веселимся. Я превзошёл самого себя. Ставлю потрясающие кинотрагедии по новому методу (118). Издеваюсь над присутствующими. «Публицистический кинематограф»! Ставил трагедию «Действительный член «Дома Искусств» (про Н.), «Памятник Мих. Слонимского» и «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова». Стихи Ваши, по-моему, гораздо хуже Ваших прежних. Увы! Это, видно, судьба всех нас, уезжающих из России – незамедлительно начинаем писать хуже. Целую ручку.
Лева
42. А.М. Горький – М.Л. Слонимскому (119)
10 октября 1922, Сааров.
Очень огорчён тревожным письмом вашим, милый мой Михаил Леонидович, но, так как суть события вами изложена неясно, – тревога ваша кажется мне преувеличенной. Да и конец письма вашего бодрее начала. К Пильняку как литератору я отношусь отрицательно, вы, наверное, видели это из моего письма, которое я просил вас передать ему. Кажется, и как человек, он – неважный товарищ. Крайне жаль, что Никитин поддается его влиянию, но – Никитин здоровый талант и, думаю, это влияние не может испортить его. Он сам скоро увидит, что Пильняк из тех, кто подражает, а не из тех, кому подражают. Пильняк – нигилист. Вашу книгу «6 стрелковый» я не получил и Лозовика (120) не видел. Это очень грустно. Пошлите мне экземпляр в Москву на имя Ек<атерины> Пав<ловны> Пешковой – Машков пер., 1, 16, для Ив<ана> Пав<ловича> Ладыжникова, он в конце месяца едет сюда. Очень хочу получить книгу Зощенко. Вчера у меня был Вова Познер, читал две хорошие поэмы: «Лизанька» и «Вся жизнь г. Иванова», – славный поэт и хороший парень <…> Затем – очень кланяется в<ам> и другим Серапионам М. И. Бенкендорф, ныне – Будберг. Вместе с вашим, получил письма Лунца и Зильбера, такие славные письма. Они несколько сгладили острую печаль вашего. Зильберу я советую издать книгу рассказов его здесь, – в «Книге», не у Гржебина. Он, вероятно, покажет вам моё письмо, и вы увидите, как я это мотивирую. А Лунц написал трагедию, взяв героем Бертрана де Борн? Хотел бы прочитать эту вещь, и – нельзя ли будет перевести её на французский? Возвращаюсь к вам. Я знаю, что среди Серапионов вам выпал жребий старшего брата, «хранителя интересов и душ» братии. Это трудная и неблагодарная роль, но это почтенно и необходимо. И ваше стремление сохранить дружескую связь, цельность братства возбуждает у меня к вам чувство искреннейшей благодарности, уважения. Скажу прямо: вы, Зильбер, Лунц, Зощенко это самое ценное ядро «С<ерапионовых> б<ратьев>» и самое талантливое. Держитесь ближе, крепче, и вы явитесь магнитом, который привлечёт к себе всё наиболее значительное. Сейчас мне нужно идти на вокзал – не дописываю письма. Мой адрес: Берлин. Furstenwalde, Saarow – Sanatorium. Сердечный привет. А. Пешков
10.Х.22
43. А.М. Горький – В.А. Каверину (121)
10 октября 1922, Сааров.
Вениамину Зильбер
Я наверное получу в<аши> рукописи, если вы пошлёте их в Москву, Чистые пруды, Машков переулок, д. 1, кв. 16, Ек<атерине> Пав<ловне> Пешковой для Ивана Павловича Ладыжникова, который в конце месяца поедет в Германию. Здесь все рукописи, достойные – по в<ашей> оценке – опубликования, могут быть довольно скоро изданы – для России и заграницы – «Книгой», для Госиздата. Условия издания будут приличные, часть гонорара в<ам> переведут немедля. Вероятно, можно будет все или некоторые рассказы предварительно напечатать в разных здешних изданиях. Целая книга сразу покажет читателю оригинальность в<ашего> таланта, своеобразие и свежесть фантазии вашей. Читатель поймет, что пред ним не каприз, не случайная игра воображения, а – нечто исключительное и – ценное. Уверен, что не ошибаюсь. Однако вы должны знать, что вас не сразу поймут и оценят. Вам нужно вооружиться терпением в пути, на который в<ас> обрекает характер в<ашего> таланта. Его надо очень любить, очень беречь, – это цветок оригинальной красоты, формы, я склонен думать, что впервые на почве литературы русской распускается столь странное и затейливое растение. Для меня, старого читателя, уже и теперь в<аши> рассказы выше подобных у Гоголя. Не люблю сравнений, но, думая о вас, всегда невольно вспоминаю Гофмана и – так хочется, чтоб вы встали выше его! Я много мог бы сказать в<ам> комплиментов, все они были бы искренни, и я не считаю их преждевременными. Но – пока довольно, и – о другом. Позвольте посоветовать в<ам> вот что: держитесь крепче с друзьями: Лунцем, Зощенко, Слонимским да и всеми другими, кого не оглушает, не ослепляет «базар житейской суеты» (122). Не обращайте внимания на обезьян, вроде Пильняка, и спекулянтов красивым, но пустым словом. Вы – юноша, по мере расширения и углубления вашего опыта в<аша> фантазия должна тоже шириться и углубляться, она может заставить вас написать вещи глубочайшего значения. Это вы должны помнить, стремясь к этому – берегите и любите в<аш> талант. Очень крепко жму вашу руку, милый друг.
А. Пешков
10. Х .22. Furstenwalde. Saarow. Sanatorium.
44. М.Л. Слонимский – А.М. Горькому (123)
Вторая половина октября 1922, Петроград.
Милый Алексей Максимович,
неврастенический период Серапионов кончился. Все спят спокойно и крепко. Убедился, что разбиться мы физически не сможем. Писать халтурно и нечестно тоже вряд ли будем. Живём. И опять покорнейшая просьба: прислать нам всё, что хотите, для журнала. Журнал будет (124). Через месяц выйдет первый номер. Размер журнала – 4 листа. С той же просьбой обращаюсь к Ходасевичу, Толстому, Эренбургу и, конечно, Виктору (125). Кого вы думаете хорошо было бы привлечь ещё из «эмигрантов»? Журнал издается частным изд<ательст>вом и даже не «Кругом» (о «Круге» вы, наверное, слышали?). Хотелось бы очень вашего участия. Я вас очень люблю, Алексей Максимович, и с нетерпением жду обещанной весны и встречи. Посылаю вам книжку (126), очень хотел бы знать о ней подробное ваше мнение. Как-то вы сказали обо мне, что я «шатаюсь». Чувствую, что вы правы. Но меня влечет к фантастике в быту. Не могу я писать бытовых рассказов, скучно, а в то же время без быта тоже не хочу. Не приемлю. Вся работа – в преодолении быта. Поэтому, м<ожет> б<ыть>, органически чужд мне Пильняк, который бьёт на натурализм. Лунц ответил вам. Я с ним много говорил о вас после ваших писем к нему, и ко мне, и к Федину. М<ожет> б<ыть>, эти письма были одной из причин быстрого конца неврастенического периода. Опять наступает период упорства. В «Веретёныш» не пойдём <…> Всего вам хорошего.
Ваш М. Слонимский
45. И.Г. Эренбург – М.Л. Слонимскому (127)
29 октября 1922, Берлин.
Haus Trautenau Trautenau str. 9
29.10
Дорогой Слонимский,
(простите – не знаю Вашего имени и отчества).
Я получил Вашу хорошую книгу (128). Большое сердечное спасибо. Скажу ещё раз, что крепко и по-настоящему верю в Вас как в строителя новой прозы. Посылаю Вам: статью о «Серап<ионовых братьях>» в «Clarte» и мою статейку, которая пойдёт в ближайшем номере «Русской книги» (129). Она написана наспех для чужого издания и поэтому крайне легковесна. Вот возобновляется «Вещь», и там я полагаю написать на ту же тему нечто серьёзнее, в частности и о Вашей книге. Получили ли Вы от «Р<усского> творчества» авторские экз<емпляры> (130). Уверяют, что выслали. Желаю Вам успешной работы и вообще всего хорошего! Привет. Ваш Эренбург.
46. Л.Н. Лунц – А.М. Горькому (131)
9 ноября 1922, Петроград. Петербург. 9 ноября 1922.
Дорогой Алексей Максимович!
Прочёл Ваше письмо с радостью. Конечно же, Вы не поверили минутному сомнению Миши! (132) Пильняку нас не разломать: руки коротки. Да и вряд ли кому это сейчас удастся. За последние полтора месяца это подтвердилось. Мы, Серапионы, сходимся с каждым днём всё крепче и глубже. Единственный, кто на отлёте всё время, – это Всеволод (133). Он всё-таки нам чужой. Разумеется, он ближе нам всех других писателей ли, людей ли, он добрый редкий товарищ, но он не брат , он может отпасть, а ведь никто другой из нас отпасть не может . Был момент, когда казалось, что вот-вот он сцепится с нами по настоящему, по нутряному. Но здесь ударила эта проклятая публицистика, кот<орая> подняла вокруг Всеволода свистопляску и вскружила ему голову. Результаты самые губительные. Всеволод начал писать слабее, теряет часто свой голос, впадает в скучную, осторожную тенденцию. У нас «на Серапионах» он уже почти год ничего не читал: знает, что мы его ругнём. Мало того: он было вздумал, под влиянием каких-то своих левых друзей, и вообще бросить «половинчатых» и «подозрительных» Серапионов. Около месяца он не бывал у нас на собраньях. Но на прошлой неделе он, наконец, опомнился и теперь снова полон, к общему восторгу, самого пышного Серапионовского патриотизма. Алексей Максимович! Напишите ему непременно и обложите его хорошенько. Ведь сколько в этом парне сил – даже в уме прикинуть невозможно. (Вы читали в «Накануне» его «Рассказ о себе»? Как хорошо!). Теперь о другой нашей беде, о нашем «enfant terrible» – Никитине. Этот уж другого рода. Это Серапион насквозь, он уйти от нас не может. Но он – добрейший и милейший мальчик – тряпка несусветная, слаб, без всякой воли и падок до успеха. Всё лето он был в разъездах и из-под Серапионовского влиянья ушёл. Отсюда – то письмо в «Нак<ануне>» (134), так справедливо Вас рассердившее, и др. фортели в этом роде. Особенно дурное влияние на него, как на писателя, оказал Бор. Пильняк, которому Никитин подражает нынче во всём. Впрочем, за последнее время мы его постепенно начали обучать уму-разуму. Но тут ещё как раз у бедного несчастная и трагическая любовь. Совсем сбился с толку малый. Ну, да за него мне не страшно: образумится. Кстати, о Пильняке. Я, будучи в Москве, поближе познакомился с ним и несколько переменил о нём своё мнение. Он человек не такой плохой. Просто хам и дурной товарищ . Но нежный семьянин и весёлый, услужливый приятель ! Писательскую манеру по-прежнему считаю вредной. Милый Алексей Максимович! Вы уж простите меня за то, что я сегодня всё о Серапионах говорю. А у меня они, не шутя, сейчас три четверти жизни моей занимают. И мне очень хочется поговорить о них (так хочется говорить – всегда, со всеми, всюду, – о любимой) с человеком, которому они – знаю – дороги. Меня очень беспокоит бум, который поднят вокруг нас в России и за границей. Стоит ли игра свеч? Вообще, пока (надеюсь) мы ещё очень и очень спорные величины. Я говорю это без всякого ложного кокетства. Но уж, во всяком случае, над скуднейшим печатным материалом орать нечего. Конечно, мы к шумихе не прислушиваемся, но всё-таки мы народ молодой, и слава щекочет. А ведь вот придёт минута и начнут кричать о «раздутых величинах» и «неоправданных надеждах»… Зильбер Ваше письмо получил и растроган до слёз. Его такими отзывами не балуют. Но он, наверное, Вам сам ответил. Жаль, что Вы не успели познакомиться с Ник<олаем> Тихоновым (135). Это неоценимый интереснейший человек, а стихи его я считаю событием в нашей поэзии. Совершенно необыкновенный напор, пафос, сила! Несколько слов о себе в заключение. Мои отчаянные хлопоты о выезде за границу увенчались – отказом. То есть, не отказом вернее, а канцелярской волокитой в Москве. Т<аким> о<бразом>, я зимую тут. Это плохо, пот<ому> что я болен (и сейчас пишу в бронхите) и живу в отвратительных условиях. А в Германии у меня вся семья (136). Ну, хныкать не стоит… Дорогой Алексей Максимович! Я на днях высылаю Эренбургу обе мои трагедии (137) для отдельной книжки. Если ему не подойдут, он Вам передаст их. Надеюсь, Вы не рассердитесь и поможете пристроить их где-нибудь в Берлине. Жму Вашу руку Лев Лунц
P.S. Простите за помарки и неразборчивость: я пишу в постели.
<Приписка М. С. Слонимского>.
Милый Алексей Максимович, письмо Ваше получил. Спасибо. Теперь с Серапионами всё не так страшно. Собираемся у Федина. Держимся крепко. Обстоятельства этому помогают. Писал Вам с Ив<аном> Павл<овичем> (138). С ним же отправил книжки. Всего хорошего.
Ваш
М. Слонимский
Привет от В. Шкловской-Корди.
47. В.А. Каверин – А.М. Горькому (139)22 ноября 1922, Петроград.
Дорогой и многоуважаемый
Алексей Максимович!
Сердечное спасибо вам за письмо и за ваше такое доброе обо мне мнение. Оно мне чрезвычайно дорого и ценно, тем более, что почти никогда я не слышу подобных этому мнений. Однако ж я боюсь слишком вам поверить, и мне кажется, что столь чудесного отзыва я не заслужил. Мне так хочется всё же оправдать его, что я поспешу как-нибудь переслать вам мои последние рассказы, и с этим письмом посылаю «Инженера Шварца». Этот рассказ я написал летом, он, по заданию, несколько современен, что не дало мне возможности соответственно со стилем усложнить и детальнее разработать сюжет. Эта фантастика настолько строится на реальности, что сложность первой неизбежно ограничивается простотой второй. Это первый опыт мой о русских. А мой второй рассказ «Столяры» (по отзывам и сколько смею сам судить) – лучший, я пошлю вам в начале следующей недели. Если эти рассказы дойдут до вас, то я буду просить вас где-нибудь их напечатать. В Москве в конце месяца выходит альманах изд<ательства> «Круг». В нём будет помещена моя повесть «Пятый странник», о которой я писал вам в прошлом письме. Не буду писать вам подробно о Серапионовцах. Все здоровы, много и хорошо пишут и, слава богу, перестают обращать внимание на бесполезную шумиху, вокруг нас поднятую. Верно, они вам пишут. Большое спасибо вам, дорогой Алексей Максимович, за посылку (140). Она пришлась кстати; но мне непонятно, какой смысл имеет переводить посредственные рассказы на франц<узский> язык? Мне кажется, что г. Жермен пожалеет о своём начинании. Мне кажется, что рассказы из первого альманаха не будут иметь успеха во Франции. Ещё раз сердечно благодарю вас за ваш добрый отзыв, за помощь, за то, что вы так хорошо ко мне относитесь.
Весь ваш В. Каверин
22/ХI – 1922 г. Петроград. Греческая, 15, кв. 18.
Этот рассказ печатается в изд<ательстве> «Круг», но выйдет не раньше, как месяца через три. Посылаю также с П. П. Крючковым «Столяры». Если будет возможно, напечатайте это, Алексей Максимович, а то здесь никто меня не печатает. Привет сердечный и поцелуй Пушкину (141). Его все помнят и любят по-прежнему.
48. К.А. Федин – И.С. Соколову-Микитову (142)
7 декабря 1922, Петроград.
Дорогой друг, получил оба твои письма – большое и маленькое, с пером несчастного черныша и без пера – получил и телеграмму. Если бы ты знал, как мне хочется поехать к тебе, ты не ругал бы меня, как будешь ругать после этого моего письма. Ты нарочно растравил меня описанием удивительных людей и прекрасных мест, расковырял мои городские язвы деревенским зондом и теперь – поди – посмеиваешься себе в ус – приедет, мол! А я не знаю, друг мой, как выбраться отсюда. Но – всё по порядку. Прежде всего, ты ослепительно подделал стиль Всеволода (143), приведя цитату из письма, которое никем и никогда не было написано: «копит деньги, не выедет до самой смерти…» Ей-богу, я поверил и обругал Всеволода. Он чуть не рассердился. Главное, верно то, что хожу в калошах, пишу по пяти листов (только не печатных!) в неделю. И вот хочу тебе пожалиться. Право, скверно жить. Когда литература становится источником существования, она перестает быть литературой. Слонимский недаром проповедует сейчас «английскую систему»: сначала, курицын сын, займись торговлей, банковскими делами, биржей, накопи денег, а потом берись за искусство. Иначе какой ты к чёрту художник, когда за полфунта колбасы готов продаться любому маклаку. И правда. Роман я свой оставил (144). Надо было достать денег. Много денег. Я взялся за переделку романа Гюго – «Отверженные» – для частного издателя. Из 88 печатных листов надо сделать 6-7. На одно чтение у меня ушла неделя! Я пишу добросовестно – каждый день по 10-15 страниц, диктую жене, которая трещит под ухом на машинке. Переписываю Гюго… Но даже на такую «переписку» нужно загубить недели две-три. Конечно, это – варварство. И даст мне это очень немного. Но что делать? Что делать, чёрт побери! Подумай, это случилось в разгар моей работы над романом, который я как-то полюбил. А разве у меня есть какая-нибудь гарантия, что, когда я «переделаю» Гюго, мне не придётся переделывать Льва Толстого, Поль де Кока, Гёте, Брешко-Брешковского? Никакой! У меня волосы становятся дыбом, когда я думаю о том, что будет дальше. Из-за необходимости жрать, кормить и греть семью, всю жизнь, всю жизнь гнаться за гонорарами, авансами, процентами. Как легко, как бесконечно просто стать литератором и как трудно им быть. Журналистика, репортаж, безответственная болтовня в газетках и журнальчиках, дающих «доход», – вот что грозит всякому писателю, живущему тем, что он пишет. Я это чувствую сейчас остро, иногда до физической боли. Друг мой, ведь надо быть дубиной или каким-нибудь механизмом, чтобы после переделки «Отверженных» сейчас же сесть за свой роман! Словом, мне трудно материально. Другое обстоятельство. Я смогу выбраться отсюда недели на две на праздники (т<о> е<сть> в конце декабря по новому стилю). Потом буду вынужден (служба!) сидеть в Петербурге до июля. Я не был четыре года у старика-отца. Он дряхл, немощен, ждёт меня, хочет свидеться. Передо мной выбор – ты или отец. Я знаю, у тебя я отдохну, с тобой, на деревне, на новых ветрах. У отца только больше ещё издергаюсь, устану. И мне хочется к тебе. Но как-то совестно перед стариком и перед… собой. Есть выход. Я хочу позвать отца к себе, в Петербург. Может быть, он согласится. Тогда я приеду к тебе, с книгами, дрожжами, табаком и дробью, романом и чистым сердцем, которое ты подкупил своими добрыми делами. И тогда ты меня поучишь охоте, покажешь мне свою Невестницу, кузнецов и фельдшеров, покормишь меня мёдом и попоишь самогоном. На Николу, конечно, не успею. Если выеду к тебе, а не к отцу (в Саратов), то это будет числа 26-го декабря. Тогда я сообщу тебе точно телеграммой. М. М. Шкапскую видел ещё до получения от тебя писем, она рассказывала о тебе хорошее. И Лунц, с которым ты был у Пильняка, тоже говорил о тебе хорошо. Особенно понравилось ему, как ты снял пьяного Пильняка со стола одной рукой. У Лунца и посейчас дрожат коленки от восторга, как он вспоминает твою руку. Серапионы за последнее время внутренне ожили. Крепко и дельно спорим по субботам (собираемся теперь у меня), дружно и холодно отплёвываемся от идеологов. А они всё чаще и чаще шпыняют нас. Да и не только они: с лёгкой руки эстетствующего Кузмина каждая козявка норовит теперь накакать на наше содружество. Это досадно, хотя мы все знаем, что газетки раздули наше значенье раньше времени (впрочем, не без основанья) и должны были спохватиться: «а что, собственно, они сделали, что мы о них так много говорим». Глупо это и смешно. Думаю, что за продолжительной полосой ругани, которая теперь непременно наступит, придёт новый прилив од и гимнов. Жалко, что у нас нет своего журнала, что как-то не наладится дело с альманахами. Можно было бы ясно и прямо вести линию живой работы, а не кропить кропилом по журналам из чаши со студёной и чистой водой (я уверен, что наша вода немутна и не затхла). Ты прав, конечно, Иван, что у нас есть инженеры и даже часовщики (у Каверина отец – капельмейстер, однако). И я, например, ближе других серапионовцев примыкаю к типу писателя старых русских традиций. Но думаю, что ты заблуждаешься, когда говоришь, что «часовщики» далеки русскому человеку. Вспомни, хотя бы, Лескова – этого тончайшего механика. А потом. Серапионовцы по-разному идут к одной и той же цели: оживление русского повествования. Тут разные силы приложены к одной точке. Один работает над сюжетом (и перегибает палку – Лунц, кричащий «На запад!»), другой – над словом (и тоже худо – Никитин, которого не понимаешь без подстрочника), третий – над фольклором (Зощенко), над пересадкой на русскую почву германской фабулы (Каверин). Достичь идеального умещения наибольшего числа элементов, из которых слагается повесть, в одном произведении – вот цель, смысл, оправдание нашей работы. Если нам это не удастся – удастся будущему поколению, а мы, как усердно советует Лунц и чего упорно не хочет Иванов (оно, конечно, досадно!), унавозим ему почву. <…> Если я не выберусь к тебе, пошлю по почте книги. Напиши, может, выслать ещё что. Книгу мою «Круг» замариновал, я зол, я негодую, я собираюсь вон из «Круга». Это всё. Дай обнять тебя. Но не раздави мне ребра.
Твой Константин
Жена кланяется тебе, примирилась с мыслью, что я поеду. Дочь растёт и кричит немолчным криком. Сейчас спит. Пиши, у тебя больше свободного времени. Получил ли ты № 8 «Новой русской книги»? Она провалилась, что ли?
49. Л.Н. Лунц – А.М. Горькому (145)
16 декабря 1922, Петроград. Петербург. 16/XII 1922 г.
Дорогой Алексей Максимович!
Раньше всего, чтобы не забыть, – о рукописях. Я выслал обе свои пьесы (146) на этот раз Вите (147). Ему же написал, чтобы он дал «Бертрана» Вам. Очень рад буду прочесть Ваше мненье. Теперь о моих «мненьях и сомненьях». Странное дело! Я очень не люблю писать в письмах о литературных своих замыслах и рассужденьях ( говорить люблю до тошноты). Вы – единственный человек, которому я пишу об этом. Вы уж меня простите. Я на днях прочёл у Серапионов большую статью – «На Запад!» Пря произошла потрясающая. Едва не побили меня. Это было, кажется, наше самое интересное заседание. Я проводил в своей статье ту мысль, что русская проза сейчас очень скучна . Все владеют языком, образом, стилистическими ужимками, – и щеголяют этим. Но это только доспехи. Главное же, что необходимо сейчас, – это занимательность и идея, ос<обенно> первая. То и другое даётся только при большой и хорошо развитой фабуле. Я считаю, что разрушенье русского романа произошло вовсе не потому, что «сейчас роман невозможен», а потому, что все слишком хорошо владеют стилистическими мелочами и под ними тонет действие, если оно и имеется вообще (так у Всеволода). «Голый год» Пильняка, по-моему, очень характерное и возмутительное явление. Это не роман, а свод матерьялов. Фабула требует долгой учебы, многих опытов и эскизов. А все, в том числе и большинство Серапионов, не хотят работать на почти верную – вначале – неудачу – и движутся по линии наименьшего сопротивления. Поэтому я зову братьев учиться фабуле у русских романистов, но ещё настойчивее призываю на Запад, где традиция романа сильней и связанней. По-моему, голая лирика, голые словечки, короткие анекдоты надоели. Надо писать большие вещи, хотя бы не такие совершенные. Совершенство придёт после тяжёлой работы. Меня здорово «облаяли», особенно за «западничество». Но я держусь за него крепко. Полагаю, что русское скифство (148) – идеология провинциалов, которые плюют на столицу и гордятся своим провинциализмом. Гордиться нечем. Прочёл я «Хождение по мукам» Толстого. Очень понравилось. Вот тоже доказательство того, что роман не умер. Интересно знать, хорош ли его роман о марсианах? (149) Книжка Зощенко Вам высылалась неоднократно (150). Не везёт ей. Зощенко прямо в отчаянии. Зильбер – единственный, со мной со всем согласный. И он работает над действием. Пока выходит тоже не первый сорт. Но это пока ! Ему – 20 лет. Я всё болею и слабею. Совсем развалился. На днях я еду в санаторию. К весне упорно надеюсь выбраться за границу. Жму Вашу руку.
Лев Лунц
50. Б.А. Пильняк – К.А. Федину (151)
23 декабря 1922, Коломна. 23 декабря 1922, Коломна, Моск. губ. Никола-на-Посадьях
Константинушко, родной!
В Москве – за Sturm und Drang'ами (152) и поговорить о делах не успелось. Сейчас сижу в Коломне, в тишине, – думаю о «Круге», как бы лучше всё было: надо подтянуть все гашники и – победить! Иначе позор. Поэтому и сейчас – не о себе, о делах. Только два слова – не знаю уж – как, вроде интродукции: прочёл я твой отрывок в «России» – прекрасно, больше ничего не скажешь. Если весь роман (153) будет так написан, это будет событие; этот отрывок – лучшее, что я читал не только у тебя, но и у всех серапионов. Ну, а теперь дела. Не знаю, заметил ли ты ещё одну ужасную вещь в «Круге», которую открыл я, только вернувшись этот последний раз в Коломну, когда просмотрел отчёт Асеева (от которого он сообразил сбежать): нас съедают поэты, 2 / 3 купленного – стихи, а стихи – все оплачены. Ты скажешь, – повинен я. Да, и я; но главное несчастье в том, что разделение стихов и прозы произошло как раз в то время, когда я не ладил с Воронским и Аросевым (помнишь?), а в тех неладах Асеев был на стороне Воронско-Аросева. Если мы будем печатать все эти стихи – мы погибнем. Я распорядился все принятые стихи прислать мне, просмотрю, процежу и… нажму на Воронского (он это предлагал), чтоб он эти сборники перекупил у «Круга» для Госиздата и Главполитпросвета ( об этом моём предприятии держи в секрете , так как может произойти скандал, ибо я первый – враг диффузии между «Кругом» и «Госиздатом»; эта мера – чрезвычайная; на ней, по теперешнему курсу, мы вернём миллиардов 45). Сделаю я это дипломатично. H-но… – и мне сейчас приходится думать о рукописях. Я думаю о прозе, только и – о третьем альманахе (154). У меня к тебе просьба (уполномачиваю!!! если надо, бумагу пришлем!!!) – взять на себя представительство в Питере. Все томы нашей (купленной нами) прозы будут напечатаны к 1-му марта. Верю, к тому времени мы выправимся. Первое, что надо: это – альманах. II альманах выходит 25 января. III – 1-15 марта, – о нём и речь, матерьял для него нужен к 1 февраля. Посмотри, пособирай, попомни. Первое, что я прошу – это твой роман: если целиком его дать не успеешь, давай, сколько есть. Ты говорил, листов 5? Понажми на Всеволода (155), на кого найдешь нужным. От питерцев я жду листов 10-12, – напиши мне, как обстоит. У Тихонова, ещё у кого – попроси стихов. Деньги теперь – гонорарные – идут только через меня, – приму все меры, чтоб найти их для оплаты гонорара – к 1 февраля. Кроме того поспрошай, пособирай томы; если есть что-либо ценное, уже напечатанное, – можно вторым изданием; это понадобится к 15 февраля – 1 марта. Закрепи за «Кругом» каверинскую повесть (156): для 3 альманаха? Пожалуйста. Напиши, каковы у питерцев реальные возможности. Целую. Кончаю. Пиши.
Твой Пильняк
Поклон братьям! (157)
51. Н.Н. Никитин – А.К. Воронскому (158)
29 декабря 1922, Петроград. 29/ХII-22 г. П-бург
Дорогой Воронский, первое – о чём хочу написать вам – это: 6-я книга «Нови». Я скажу вам совершенно определённо – издание стало совершенно прямым (в смысле «выпрямилось»), это в смысле тона и выдержанности толстого российского журнала. Это огромное достоинство, это общее от него впечатление. Журнал вкусен, подобран, т<о> е<сть> что называется составлен по-настоящему. Если говорить о деталях, они, конечно, не касаются журнала, они – суть внутренние органические пороки авторов, – об этом скажу так. Эренбург – ? Эклектичен, как щенок, лающий на 10 лаев, под всех знакомых взрослых собак. Вам, конечно, может нравиться его «Курбов» (159), но если вы вглядитесь в ритм вещи, в стиль диалога (особенно диалога, – такие, например, фразы, их строй: «ценю я свободу… как в Англии…» «Идеи? – Это так не модно, есть лишь одно… моя свобода…» «Я обожаю Метерлинка…» «Воляй-Сюпрем»…), в эту отрывчатость, ненужность вещей, о которых сообщают действующие лица, диалог – тоже ритмичный, вы скажете – Белый . Жалко только, что однопроцентный раствор. Белый в языке элегантен, и шаманством своего бреда – заразителен. И в данном случае: хороший повторитель не стоит даже пальца хотя бы маленького оригинала. Мне Чапыгин – интересен больше. А Шагинян просто интересна и мила. Это то, что всегда должно быть в журнале – для веса и информации . Толстой – для имени (об «Аэлите», о существе – говорили мы, кажется, ещё в Москве). А вы знаете, что у вас там самое замечательное – это – этот несносный быт, но он острый, в иголках, живой, с мясом, им питаешься с наслаждением – это очерки Шишкова. Хорошо! То, что напечатана «Записка» Дурново, – прекрасно. Прочёл, подумал: старый императорский режим имел огромных людей, но не умел ими пользоваться. Об этой «Записке» будут говорить. Вот бы таких нам. Впрочем, кажется, сказал глупость! Теперь о статье вашей. Что говорить? Замятин вами вознесён и уничтожен. Статья – я скажу – запечатлевшая Замятина, превосходно написанная. Но негатив, сложившийся в голове, был, наверное, острее и больнее, перенеся на бумагу, вы отретушировали. Так, «Мы» – стала замечательной. Ничуть. Эта вещь – «интересна» (если можно так говорить) – политической пряностью, памфлетизмом! Ценность небольшая. А написана скучно, сухо – читатели зевают. Это вам не Свифт – а сатирочка из уездного. Уездное, а не мировое. Дай мне рожу, талантливый гротеск, кривое, дай новую мысль, чего не бывало в русской литературе, не бойся сказать, что «человек хуже собаки», пусть ругают… Впрочем, довольно. Теперь о конце статьи. Тут я говорю от себя. Об учениках Замятина. От Замятина я не отрекаюсь. Он показал мне – что слово имеет и скелет, и кровь, и мускулы, что это такой же организм, готовый анатомически и физиологически, как всякий организм. Не будь его, я, может быть, и не писал бы. Но как неправдоподобно сочетание меня и Замятина, так привившееся за последнее время. Мы разные люди во всём. Соседство моё с ним сейчас присваивается мне, как политическая накладка, но ей-богу, снять её так же легко, как даме волосяную фальшивую накладку из-под своих волос. Стиль Замятина – и мой… Где же сходство? У него словечки и словечушки, сказ алатырских мещан, а в другом – («Островитяне») – имажинизм сентиментальных конструкций (например, «самое лучшее в жизни бред, а самый прекрасный бред – влюбленность»). Я никогда не писал так. 1) У меня фольклор – язык земли (не мещанина, а мужика), смешной и корявый, богатый и тёмный. Говорят: – словари. Пусть – кто знает эти словари? Кто-то меня упрекнул однажды в Дале. Но я Даля и не нюхал. Я просто знаю местный язык, и ещё (это теоретически) – местные словари, собранные не академиками, а собирателями. Фольклор – это русское богатство. Мой фольклор – не для сказа, чтобы высмеять, «подсидеть» (Замятин всегда подсиживает) мещанство. И моя первая вещь, написанная фольклором, «Кол» – разве это сатира или ирония или подсиживание, смешок… Простите, это – трагедия. Россия – пережила эту трагедию. А трагедия была – напрасно вы спорите, Александр Константинович, была по нашей глупости, по нашей взаимной темноте. Вся кровь гражданской войны и бессмысленность мужицкого бунта вышла оттуда. Это общая тупость мест и людей. Никто не виноват. Вот заключительная сцена, в последней главе вы чувствуете полный покой (Шагинян была права), нет виноватых – это прекрасное, идущее за Лиром, за классикой, за трагедией. Замятин так не кончает. И наконец, последняя повесть «Полёт» – язык, и смысл, и тема, где же «замятинство», у Замятина нет строчки без смешка («Уездное», «Островитяне», «Мы», «Сказки»). Теперь политически. Эта кличка «замятинца» – не только вредна, с этим я мало считаюсь, и если б это было только так, я не протестовал бы, но в корне груба. Credo моё – вам известно: – «с большевиками!» Теперь подробности. Меня к замятинству можно примазать тем, что беру темные, страшные вещи. Но это, дорогой Александр Константинович, исторический процесс, – ребёночек не рождается чистеньким, он рождается уродцем и в крови, пусть заботливые бабки обмоют его. Но я не смеюсь над ребёночком. Каждому дано своё – один искренно романтизирует, поет гимны, другой копает, трагическое («Рвотный форт»), где люди безумствуют, мучаются, где некоторые принижены «хуже собаки», где занимаются онанизмом… Но где Пим (160) говорит, когда ждут англичан (говорит не он, а русский тёмный лес): «Не надо нам царя Ирода». Революция живёт среди людей, обеими ногами погрязших в жирной свинине и блуде. И те, кто творит её, – тоже плоть от плоти. Это не весело, это – неприятно. Я и мои товарищи – художники катастрофической эпохи, каждый у нас берёт по-своему. Упрёки в отсутствии пафоса или радости у одного из нас (а хотя бы у меня) бессмысленны, потому что я этого не дам, ибо мне этого не дано. Когда придёт синтез, тогда будет золотой Пушкин, а мы – «горьковщина» или «достоевщина», литература не той пробы (т<о> е<сть> романтически-радостная ложь или романтическое поскребывание душ). Почему – «с большевиками!»? И почему – такой, а не такой, как хотелось бы вам? Вот пример: у матери два сына – один ласковый, другой неласковый. Но любовь обоих одинакова. И ласки того, кто всегда ласкается, – нужны, необходимы, мать к ним привыкла, без них ей не прожить, но вот, во время привычных ласк, она с тревогой смотрит на того, кто не умеет ласкаться, с тревогой (это ясно матери)… Но когда опасность грозит матери, тот – кто не умеет ласкаться, – может быть, первый берётся за винтовку, чтобы защитить мать. Любовь такая – познаётся в действии, а мне переряжаться в красноармейца – не привыкать. Но я люблю говорить матери – то, что думаю…, потому что если бы я лгал ей, я не любил бы её. И никаким неприятностям, никаким цензурам – этого моего ощущения не убить. Всё, что щелкает меня по носу сегодня, я считаю глупостью сегодняшнего дня. А вечно одно: Россия – Революция – РСФСР. Триада. И если я скажу о разложении, о падении, о летящих в бездну Фирсовых, – то здесь я говорю о проценте, осуждённом на смерть. Кто виноват? Большевик? Конечно, нет. Война, революция – закон исторического процесса. Это люди, может быть, очень хорошие, но попавшие в машину времени и ею измолотые. Может быть, очень плохие – гниль, помои, остатки – не будем о них плакать. Так офицер Донбрюков в «Рвотном форте» – и гниль, и честен. Онанист и человек, исполнивший свой долг честно, умер на посту. Фирсов (161) – офицер – сформировавшийся в войне и революции в истребительный организм. Зверино – в волка, любит и думает сильно, но эти думы и эта любовь не годны уж к творчеству, а только к разрушению, он оценит вам подлость прошлого и подлость сегодняшнего («Лакеи в Москве»), но не создаёт, а, свой мозг тоже разрушив, сойдёт с ума. Этот конец законен. Фирсовы – процент, определяемый статистикой. Процент самоубийств, идущих сейчас полосой, – это не контрреволюция, нет, это признак, что мы начинаем обстраиваться, что начинается отбор, что, как заботливая хозяйка, мы выкидываем помои. В этом смысле я намереваюсь при корректуре доделать конец (помните, мы уславливались). Тяжело, страшно – но что же делать. Это так. Это опять совершенно естественный процесс. Меньше сентиментов – побольше ясности. Вот наша задача. И плевать на бабушек из «Воли народа» – они ничего не сделают. Поменьше внимания на их выводы. Правда, в жизни мы научились ходить приплёвывая. (Вы, наверное, осуждая меня за мою пародическую автобиографию – ( пародия сущая!) (162) – не уловили этого, а если уловили, то оценили не так) – да, мы ходим приплёвывая, как солдат на фронте. А ведь мы и до сих пор – все солдаты фронта, но это наигранная усмешка, чтобы пуль не бояться… Это не есть органическое безразличие. Дайте отойти от фронтовых привычек, дайте время – мы заговорим не так. Вот всё – написал, кажется, очень грубо, простите меня, Александр Константинович, и поймите, что ваш глухой финал (финал статьи) – обидел меня. Мне думается, что вы неправы. И за себя я должен был ответить. В письме всего не скажешь, я только слегка наметил, но и по намёкам вы сумеете догадаться – о чём я хотел сказать. Теперь часть официальная. 1) Мои дела к вам. а) «Ночью» – (для 3 № «Наших дней») я закрепляю свою позицию лирическую, как лирика (я, кажется, сейчас единственный лирик, насколько это мне известно из чужих разговоров). Я не могу считать эту вещь бытовой, символической, реалистической (да я и вообще не бытовик), чтобы отвести от себя упрёк в статичности этой вещи, я хочу – чтобы было такое предисловие, его надо напечатать сразу после заглавия, немного поднявшись над текстом повести, т<о> е<сть> так, как я это даю в приложении к этому письму – пусть это вставят. б) – отдана ли моя книга рассказов «Кол» в набор? (163) Хочу сам провести корректуру, для этого приеду, пусть известят. Также – очень прошу, чтобы была хорошая бумага и приличный формат. Чья будет обложка? Срок ведь был поставлен к 1 февраля. с) Когда выйдет корректура «Полёта» – прошу вызвать меня в Москву на день-два, чтобы мне доделать конец и выправить некоторые другие места повести. Хорошо бы это скомбинировать в один приезд, т<о> е<сть> тогда же выправить и книгу. Повесть должна идти в № 2. 2) Дела по «Кругу» . а) Каверин просит денег – 800 миллионов. Назвать книгу «Мастера и подмастерья» и порядок рассказов такой, как в списке, что он прислал Пильняку. Также просит обратить внимание на эпиграфы к рассказам. б) Вопрос информационный (ведь вы нас не осведомляете) – получили ли деньги, как дела с домом? (164) с) Просьба – высылайте, пожалуйста, новые издания «Круга», например, альманах и прочее – что будет… Альманаха у меня нет. А в конце – крепко обнимаю и хочу, чтобы этот Новый год прожить нам ещё дружнее, теснее и громче. Да покруче, да похмельнее и забористей заварите пива. А за границу, Александр Константинович, едем вместе, фалангой – и выбьем «заграничников». Идёт? Обнимаю – и выпью за здоровье Вронского (так зовут вас в Петербурге) – ваш Ник. Никитин
3) к «Красной нови» Юрковский – автор рассказа «Приключение», посланного в «Красную новь», просит ответа. Сижу у Зощенки. Зощенко говорит. Сижу у Зощенки – только что рассказал ему содержание моего письма в пункте о Замятине. Видим – огромную ошибку каждого, кто обязательно приклеивает к нам замятинский ярлычок. Мы не обороняемся, а напоминаем, что Замятин своей статьёй о Серапионах в «Литературных записках» (№ 3) создал из себя мэтра (165). Это неверно по существу, и отчасти неверно формально. По существу неверно, потому что мэтр – это не есть исход, источник, выход, образец, это лишь техник и мастер… Мы ученики – техника, а не учителя такого, как Леонардо да Винчи или Достоевск<ий>. Не будь Замятина, мог бы быть Шкловский, не будь Шкловского – мог бы быть Шишков или Чапыгин, если бы они технически были близки к уровню Замятина. Но классические образцы, которыми мы питались, – не от Замятина, учились – не на замятинской прозе, а на классиках и своей – ученической, когда читали свои рассказы. Вот! Зощенко говорит – что мы не связаны с ним (т<о> е<сть> с Замятиным) одной кровной идеей. Это не тот учитель, от каждой новой вещи которого ждут откровения. Не откровение же «Огни святого Доминика» или «Мы».
Примечания
108. Литературное наследство. Т. 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963, с. 170-171. 109. В альманахе «Серапионовы братья» был опубликован рассказ «Хроника города Лейпцига за 18.. год». 110. В. Б. Шкловский. 111. «Опыты» (Нью-Йорк), 1953, № 1, с. 170-171. 112. То есть, нашлись иные способы выехать за границу, кроме принятия литовского гражданства. 113. Имеется ввиду трагедия «Бертран де Борн». 114. Б. О. Харитон, отец Л. Б. Харитон, журналист, один из организаторов Дома Литераторов, был, в конце концов, выслан в Берлин. 115. Л. Н. Лунц постоянно подтрунивал над М. Л. Слонимским. 116. Речь идет о «понедельниках» у Наппельбаумов. 117. По всей видимости, «младенцы» противопоставляются упомянутым литературным «генералам». 118. «Кинематограф» – что-то вроде «живых картин» – был одним из любимых серапионовских развлечений. 119. Литературное наследство. Т. 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963, с. 382-383. 120. Имеется в виду предложение Л. Лозовика перевести на английский язык призведения «Серапионовых братьев». 121. Литературное наследство. Т. 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963, с. 172-173. 122. Крылатая фраза, родившаяся из названия романа У. Теккерея, в более позднем переводе на русский язык – «Ярмарка тщеславия». 123. Литературное наследство. Т. 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963, с. 384. 124. Журнал «Двадцатые годы». 125. В. Б. Шкловский. 126. Сборник рассказов «Шестой стрелковый». 127. «Вопросы литературы», 1997, март-апрель, с. 244. 128. Сборник рассказов «Шестой стрелковый». 129. Имеется в виду статья «Новая проза». 130. В издательстве «Русское творчество» вышел «заграничный» вариант альманаха «Серапионовы братья». 131. Неизвестный Горький (к 125-летию со дня рождения). М., 1994, с. 144-145. 132. В письме, написанном в октябре 1922 года, М. Л. Слонимский говорит: «…пошатнулось, благодаря Пильняку, серапионовское дело. Пильняк повел линию литературно неправильную, подчинил Никитина и внес разлад». 133. В. В. Иванов. 134. Н. Н. Никитин опубликовал в № 22 литературного приложения к газете «Накануне» от 15 октября 1922 года письмо «Человеческий ли документ? (по поводу статьи «Молодняк»)», где говорилось, что автобиографии «серапионов», увидевшие свет в «Литературных записках», есть «новый род прозы». 135. Н. С. Тихонов был принят в группу «Серапионовы братья» самым последним. 136. Кроме родителей, за границу уехали брат и сестра Л. Н. Лунца. 137. Речь идет о пьесах «Вне закона» и «Бертран де Борн». 138. И. П. Ладыжников. 139. Литературное наследство. Т. 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963 , с. 174. 140. О посылках для «серапионов» речь идет в письме А. М. Горького от 20 августа 1922 года. 141. Одно из прозвищ В. Б. Шкловского. 142. Конст. Федин. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 11. М., 1986, с. 34-37. 143. В. В. Иванов. 144. Роман, получивший впоследствии название «Города и годы». 145. Неизвестный Горький (к 125-летию со дня рождения). М., 1994, с. 146-147. 146. Пьесы «Вне закона» и «Бертран де Борн». 147. В.Б. Шкловский. 148. Л.Н. Лунц подразумевает не только деятельность литераторов, объединявшихся вокруг сборников «Скифы», главным идеологом которых был Р. В. Иванов-Разумник, но и в целом носителей подобной идеи: «Нам нечему учиться у эллинов, сами мы, скифы, любого научим. Вот лозунг русской современной критики. И, выкинув этот гордый лозунг, русская литература обернулась к Западу спиной». 149. То есть, роман «Аэлита». 150. Имеется в виду книга «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова». 151. «Литературная учеба», 1990, № 2, с. 79-80. 152. Штурм и натиск (нем.). 153. Будущий роман «Города и годы». 154. То есть, третья книга альманаха «Круг». 155. В. В. Иванов. 156. Возможно, имеется в виду «Гишпанская повесть», впоследствии получившая название «Столяры». 157. То бишь, «Серапионовым братьям». 158. Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской литературы 1920-1930-х годов. Новые материалы и исследования. М., 1983 , с. 573-577. 159. Роман «Жизнь и гибель Николая Курбова». 160. Герой повести Н. Н. Никитина «Рвотный форт». 161. Герой повести Н. Н. Никитина «Полет». 162. В № 3 за 1922 год журнала «Литературные записки», где были напечатаны автобиографии «серапионов», в заметке за подписью И. А. Груздева говорилось: «Никитина нет в Петрограде… Но я даже не знаю точно, в каком году родился Никитин». Высказывалось предположение, что заметка эта – никитинская мистификация. 163. Книга вышла под названием «Бунт». 164. В планах артели писателей «Круг» значилось, кроме прочего, и строительство писательского общежития, однако построено оно не было. 165. Имеется в виду статья «Серапионовы братья», автор письма ошибочно указывает номер журнала, на самом деле, статья вышла в № 1.
|
|
|