 |
 |
|
IV. № 79. Зубной врач повесил хобот бормашины и подошел к окну.
О зубных врачах и их бормашинах см. фр. № 70 и 71. Гороховая улица — это одна из ключевых магистралей в центре города. Она протянулась от Адмиралтейского проспекта до Семеновского плаца. В д. № 2 по Гороховой улице, построенном по проекту Дж. Кваренги (ср. в комм. к фр. № 3), до революции располагалось Охранное отделение, а с 1918 г. — петроградская ВЧК и «рабочая милиция» (до 1934 г.), то есть органы, призванные обеспечивать порядок в городе. В 1918 г. улицу переименовали в Комиссаровскую, а затем в 1927 г. в улицу Дзержинского. Также на Гороховой улице традиционно помещались многочисленные пивные и трактиры. Ср. «хобот бормашины» из комментируемого фрагмента «ЕМ» со следующей метафорой из повести Даля «Бедовик»: «Малиновские пожарные трубы стояли смиренно, поникнув хоботом, на гуляньи под Каменной горой и ожидали пожара». О «Бедовике» ср. комм. к фр. № 198. Важные газетные параллели к фр. № 79–74 выявил Д. М. Сегал, назвавший сцену самосуда «центральным эпизодом» повести (Сегал: 468). Исследователь предположил, что в конкретном биографическом подтексте эпизода, возможно, лежат события не лета, а декабря 1917 г., то есть — события, происходившие не после февральской, а уже после октябрьской революции. В доказательство Сегал привел начало заметки «Самосуд», опубликованной в газете «День» 20 декабря 1917 г. (2 января 1918), содержащей выразительные переклички со сценой самосуда у О. М.: 19 декабря около 3 часов дня, на Гороховой улице у Фонтанки, показалась быстро продвигавшаяся к Семеновскому мосту толпа. Впереди всех шел молодой парень, лет 25, без шапки, с разбитым лицом, в изорванном платье, кровь капала на снег. За ним еще двое таких же молодых людей — один в штатском, другой в солдатском платье, вокруг них с револьверами человек десять солдат. Парень с окровавленным лицом все пытался что-то объяснить солдатам. Но каждый раз револьверы ближе протягивались к его лицу и отчаянные выкрики обрывались на полуслове. Оказалось, что всех троих уличили в краже со взломом и вели «топить в Фонтанке» (цит. по: Сегал: 469).Ср. также, например, зарисовку из документальной книги Е. Лундберга «Записки писателя» (1922) о ноябре 1917 г.: У Фонтанки. Расставлены подновленные калоши, ботинки, туфли. Торг. Обманутая баба грозно кричит: При этом Д. М. Сегал вовсе не утверждал, «что в течение 1917 года в Петрограде на Фонтанке был всего лишь один самосуд или что Мандельштам имел в виду определенный самосуд» (Сегал: 468). Действительно, тема самосудов по естественным причинам актуализировалась в российской прессе уже после Февраля 1917 г. Приведем здесь лишь несколько примеров, выбранных почти наугад из майских номеров московской газеты «Утро России» за 1917 г. (время действия «ЕМ»). 9 мая газета напечатала заметку «Самосуд над вором» (С. 3); 13, 14, 16, 17, 18, 23 и 25 мая — репортажи с одинаковым заглавием — «Самосуд». В этих заметках о разных самосудах рассказывалось как о форме «воздействия толпы, ставш<ей> бытовым явлением, к несчастью, получающим все более и более широкое распространение» (Утро России. 1917 мая. С. 6). См. также майские и июньские заметки 1917 г. о самосудах в Петрограде, в частности, на Фонтанке: Самосуды толпы над грабителями / Биржевые ведомости. 1917. 12 (25) мая. Веч. вып. С. 4 (о самосуде толпы над двумя грабителями, пытавшимися залезть в квартиру купца Лившица на Фонтанке, 85); К погрому на Сенной / Биржевые ведомости. 1917. 13 июня. Веч. вып. С. 3 (о самосуде над владельцами склада обуви); Самосуд над вором / Петроградская газета. 1917. 14 июня. С. 5 («На Фонтанке, вблизи Гороховой ул., был задержан мужчина, пытавшийся взломать кружку для сбора пожертвований. Когда вора вели в комиссариат, на него набросились прохожие и жестоко избили») и проч. Торец — шестигранный брусок поперечно разрезанного бревна, употребляемый для мощения улиц, а по форме напоминающий основание шахматной фигуры. На Гороховой улице, в доме № 8, при «писательском» ресторане «Вена» с 1884 г. существовал «Новый шахматный клуб». О мотиве шахмат в «ЕМ» см. фр. № 63 и комм. к нему. Слово «распорядители» здесь, по-видимому, входит в тот же «бальный» метафорический ряд, что и «котильон» (о котором см. в комм. № 62 и 69). Ср. в очерке О. М. «Меньшевики в Грузии» (1923): «Вспомнились распорядители кавказских балов в Дворянском Собрании» (2: 318). № 80. Они шли походкой адъютантов. Между ними — В шествии, изображаемом О. М., царит строгая иерархия, почти военный порядок (отсюда: «походкой адъютантов»), что неброско, но отчетливо противопоставляет это шествие подразумеваемому беспорядку и даже хаосу в структуре Российского государства. В зачине фрагмента, по наблюдению О. Ронена, содержится «явный намек на появления Керенского» (Ронен 2002: 147). Стоит также отметить похожесть того, кого ведут топить, и тех, кто ведет топить, их взаимозаменяемость. У жертвы — «ватные плечи и перхотный воротник», у палачей — «апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью», и «плечи-вешалки» (в последнем слове, возможно, актуализируется значение «вешать»). «Апраксинские пиджаки» — низкокачественные пиджаки, купленные в Апраксином дворе — оптовом рынке, одном из крупнейших исторических торговых центров Петербурга. Рынок занимает 14 га территории, ограниченной улицами Садовая, Ломоносова, набережной Фонтанки и Апраксиным переулком. Назван по фамилии первого владельца земельного участка — графа Ф. М. Апраксина. Продолжал существовать и в 1927 г. Апраксин рынок представлял, как и теперь, целый ряд магазинов, торговавших материей, готовым платьем, галантереей, мехами и пр., но качество и цена этих товаров были ниже, чем в Гостином, но выше, чем в Александровском рынке <…> В четырехэтажном корпусе была фабрика разной галантереи и целлулоидных изделий (Засосов Д., Пызин В. «Из жизни Петербурга 1890-х — 1910-х годов»). Целый ряд газетных материалов дает основания уверенно предположить, что в сцене самосуда из «ЕМ» сконтаминированы утопление вора в Фонтанке в декабре 1917 года (см. комм. № 79) и бесчинства толпы на Апраксином рынке, пришедшиеся как раз на июнь 1917 г. См., например, заметку «Беспорядки в Апраксином рынке» (Петроградская газета. 1917. 15 июня. С. 14): В течение двух дней в районе Апраксина переулка и рынка происходят крупные бесчинства <…> В мануфактурный магазин Ягодкина, в Апраксином пер., носили с ломовика бочонки с товаром, только что полученным и привезенным с железной дороги. <…> Собралось человек десять любопытных, которые подошли к ломовику и спросили, что лежит в бочонках. <…> В это время совершенно неожиданно один из бочонков выскользнул из рук ломового извозчика и, упав наземь, разбился. Из бочки посыпалось бисквитное печенье.Рядом с этой заметкой помещена еще одна, ее продолжающая и весьма, на наш взгляд, важная для понимания смысловых оттенков сцены самосуда в «ЕМ»: Зато сильно пострадал один ни в чем не повинный еврей, случайно оказавшийся в толпе. Не зная, что произошло, он обратился к кому-то с вопросом:Репортаж о бесчинствах на Апраксином рынке был продолжен в № «Петроградской газеты» от 16 июня (С. 2): Бесчинства в Апраксином пер. и на рынке вчера продолжались, хотя в более скромном масштабе, чем в предшествующие два дня. С утра на прилегающих к Апраксину рынку улицах стали появляться субъекты уголовного типа, останавливающие прохожих — рабочих, солдат и «баб» выкриками: Метафора «улья» в комментируемом отрывке тоже раскрывает тему стадной организованности толпы. Ср., например, в переводе О. М. пьесы Жюля Ромэна «Кромдейр-Старый», где описывается «улей ярмарки с пчелою-королевой». Как известно, пчелы, если им не помешать, почти всегда убивают яйцекладущую матку улья. О «пчелиных» мотивах «ЕМ» см. также комм. к фр. № 35. Сходство жертвы с палачами позволило О. М. обыграть идиому «на нем лица нет»: лица не описываются, их подменяют синекдохи («ватные плечи», «перхотный воротник», «затылки», «уши», «пиджаки»). Этот прием, вероятно, восходит к Гоголю, в частности, к «Невскому проспекту» и к «Мертвым душам»: Герои наши видели много бумаги и черновой и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сюртуки губернского покроя и даже просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, своротив голову набок и положив ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол об оттяганье земли или описке имения…Ср. также в «Петербурге» Андрея Белого: «…созерцая текущие силуэты (фуражки, фуражки, перья), Аполлон Аполлонович из фуражек, из перьев, из котелков увидал с угла пару бешеных глаз». «Собачьи уши» здесь, по-видимому, связаны с темой Египта и его отвратительной, жестокой государственности. Ср. в позднейшем ст-нии О. М. «Чтоб, приятель и ветра и капель…» (1937): «Украшался отборной собачиной / Египтян государственный стыд». Ср. в связи с этим в статье О. М. «Гуманизм и современность» (1922): …египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве <…> Если подлинное гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, она раздавит человека, как Ассирия и Вавилон (2: 286, 288).См. также во фр. № 132, где «на плечах у человека вырастает собачья голова». № 81. «Все эти люди — продавцы щеток», — успел подумать Парнок.
Едва ли не все мотивы этого фрагмента группируются вокруг неназываемого, но подразумеваемого рынка как «питомника» описываемого здесь и далее самосуда (ср. в предыдущем комментарии). Ключевые мотивы каждого из трех микрофрагментов (в первом — «продавцы щеток», во втором — «кожевенный мрак», в третьем — «требуха») объединены в очерке О. М. «Сухаревка» (1923). Там описан «запах свежей убоины», который «мускусом и здоровьем ударяет в голову — запах животных трупов, — не страшный, потому что мы не хотим понимать его значение», а в соседних строках — «квадратный запах дубленой кожи, запах ярма и труда, — и тот же, но смягченный и плутоватый запах сапожного товара» (2: 310). О «сапожном товаре» речь, по-видимому, идет в первом предложении комментируемого фрагмента, где содержится намек на «айсоров-чистильщиков сапог» (ср. о них в комм. к фр. № 70). О свирепости айсоров см. также в «Сентиментальном путешествии» Шкловского: «Ассирийцы имели партизанскую дружину, которая дралась на нашей стороне <…> дружину, страшную, по тысячелетней ненависти к курдам и персам» (Шкловский: 98). Дальше в повести Шкловский встречает одного из участников этой дружины в Петрограде в качестве чистильщика обуви, и тот при виде писателя кладет «сапожные щетки на землю» (Шкловский: 239). Приведем еще рыночную сцену из рассказа Э.-Т.-А. Гофмана «Угловое окно», как и в «ЕМ», наблюдаемую из окна двумя персонажами. В этой сцене рыночные торговцы, зеваки и продавцы щеток выступают не в роли палачей, а в роли миротворцев: Прошлый раз в рыночный день между мясными и овощными лавками появился высокий оборванец, дерзкий и свирепый на вид, и у него вдруг завязалась ссора с проходившим мимо приказчиком из мясной лавки <…> Судя по всему, история должна была бы кончиться смертоубийством, пришлось бы действовать уголовному суду. Но зеленщицы, все — сильные, упитанные особы, сочли своей обязанностью заключить приказчика-мясника в свои объятия, столь ласковые и крепкие, что тот с места не мог двинуться <…> Между тем другие женщины, а также продавцы щеток, подставочек для обуви и так далее, окружив парня, дали полиции возможность подойти и схватить его.О гофмановских мотивах в «ЕМ» см. в комм. к фр. № 102. На Сенной площади располагался Сенной рынок — «эти два понятия сливались в одно, как “чрево” Петербурга» (Засосов Д., Пызин В. «Из жизни Петербурга 1890-х — 1910-х годов»). На Мучной переулок выходил уже упоминавшийся Апраксин рынок. Москатель — это разные химические вещества (краски, клей, масло и др.) как предмет торговли. Москательный переулок в Петербурге находится по соседству Мучным и Гороховой улицей. Обилие скрытых «рыночных» мотивов в комментируемом эпизоде позволяет соотнести его с теми двумя фрагментами очерка «Сухаревка», в которых О. М. прямо высказывается о сути любого рынка и базара: Дикое зрелище базар посередине города: здесь могут разорвать человека за украденный пирог и будут швыряться им, как резиновой куклой, — до кровавой пены; здесь люди — тесто, а дрожжи — вещи, и хочешь не хочешь, а будут тебя месить чьи-то загребистые руки <…> Есть что-то дикое в зрелище базара. Базар всегда пахнет пожаром, несчастьем, великим бедствием. Недаром базары загоняют и отгораживают, как чумное место… Если дать базару волю, он перекинется в город и город обрастет шерстью (2: 310, 312). Ср. также в мемуарах А. Панаевой, внимательно читавшихся О. М. в период работы над «ЕМ» (ср. в комм. № 21): Известно, что в первую холеру, в 1831 году, среди народа распространились нелепые слухи, будто его отравляют поляки, будто все доктора подкуплены ими, чтобы в больницах морить людей <…> Как только лавочник, выскочив на улицу, закричал: «отравитель!» — мигом образовалась толпа и несчастного выволокли на улицу <…> Фигура у несчастного «отравителя» была самая жалкая, платье на нем изорвано, лицо в крови, волосы всклочены, его подталкивали в спину и бока; сам он уже не мог идти <…> Описанный случай был прелюдией народного волнения на Сенной площади, которое произошло через несколько дней (Панаева А. Воспоминания. Л., 1927. С. 49–50). Приведем еще воспоминания Н. Мандельштам, содержащие биографический комментарий к финальному абзацу нашего отрывка: «О. М. не выносил никаких внутренностей, пупков, печенки, почек… (см. требуху в “Египетской марке”)» (Новые стихи: 406). Ср. также в «Петербурге» Андрея Белого: «Аполлон Аполлонович ненавидел вид безголовых, ощипанных цыплят, продаваемых в лавках». Заметим, что тошнота Парнока выдает в нем тайный страх перед толпой. Ср. в черновике к «Путешествию в Армению» (1931–1932) О. М.: «В минуту страха мужчину тошнит, как беременную женщину» (3: 375). В связи с большим количеством и особой ролью подтекстов из Некрасова в «ЕМ» можно вспомнить и о Сенной как месте действия ст-ния «Вчерашний день, в часу шестом…» (1848), и о некрасовском ст-нии «Вор» (1850): «Торгаш, у коего украден был калач, / Вздрогнув и побледнев, вдруг поднял вой и плач / И, бросясь от лотка, кричал: держите вора! / И вор был окружен и остановлен скоро. / Закушенный калач дрожал в его руке; / Он был без сапогов, в дырявом сюртуке; / Лицо являло след недавнего недуга, / Стыда, отчаянья, моленья и испуга… / Пришел городовой, подчаска подозвал, / По пунктам отобрал допрос отменно строгий, / И вора повели торжественно в квартал». Ср. о калаче фр. № 206 и комм. к нему. № 82. Тут была законом круговая порука: за целость и благополучную В черновиках к «ЕМ» сохранился набросок, в котором втянутым во всеобщую «круговую поруку» оказывался и Парнок: Карре [так! — Комм.] перед ним расступилось, сомкнулось, и тут — тут оставался <недолгий> выбор: или разделить судьбу перхотного воротника, ведомого к баржам Фонтанки, или же в знак своей лояльности взять его под локоток, хоть чуточку к нему прикоснуться. И Парнок оценил это молниеносно: [так соображают ящерицы, куда <им> юркнуть, когда загрохочет крымский экипаж. Он вошел в систему затылков. Подчинился круговой поруке.] нужно войти в контакт с затылками, признать кругов<ую> порук<у> (2: 567–568).Гибель сознательного петербуржца, попытавшегося воспрепятствовать самосуду, описывается, например, в той, относящейся к концу декабря 1917 г., газетной заметке, которую приводит в своей работе Д. М. Сегал: Когда в комиссариат привели арестованных, там находился уполномоченный дома № 6–8 по Спасскому переулку И. Ф. Костин. Костин стал убеждать толпу не совершать самосуда и попросил собравшихся оставить комиссариат. Озверевшая толпа с криками: «ты, наверное, тоже из их шайки», набросилась на Костина, и, несмотря на его уверения, что он ничего общего с ворами не имеет, вытащила его на улицу <…> Сперва бросили в воду одного вора. Проплыв несколько шагов, преступник утонул. Вторым был брошен в Фонтанку Костин. Перед смертью он просил толпу не убивать его, говорил, что он ни в чем не виноват. Озлобленные люди не вняли его мольбам. Схватив за руки и за ноги, его с размаху бросили в воду. Костин нырнул, но спустя несколько секунд показался на поверхности воды и поплыл к берегу. Тогда кто-то из толпы сел в лодку, подъехал к Костину и ударил его штыком. Несчастный потерял сознание и утонул (цит. по: Сегал: 471).Приведем еще заметку из № «Петроградских ведомостей» от 17 (30) мая 1917 г., описывающую случай, когда против самосуда решился протестовать еврей (С. 2): Вчера на углу Владимирского и Невского произошла ужасающая сцена, к сожалению, повторяющая обычные явления улицы последнего времени <…> Вор… упал. Он хрипел, ругался и что-то грозил. Несколько тяжких ударов сапогами в голову и живот прекратили этот хрип. Толпа окружила побоище, нервный человек еврейского типа истерически кричал:См. также в «Петроградской газете» от 13 июня 1917 г. (С. 4): «Самосуд на Сенной. Избиты трое приказчиков и двое евреев-прохожих». Живорыбные садки были одной из главных примет Фонтанки. «Садок — это большая баржа с надстройкой, на которой располагались торговые, складские и жилые помещения для приказчиков и рабочих. У этих садков стояли подсобные суда — садки в прямом смысле слова с живой рыбой. Зимой живая рыба добывалась подледным ловом в заливе. На месте лова она замерзала и немедленно гужом на санях доставлялась к садкам. В садках и чанах большая часть ее оживала <…> В торговом помещении стояли чаны с живой рыбой, навалом на рогожах лежала мороженая рыба — судаки, лещи, сиги, окуни, корюшка и др. По бокам от входа стояли дыбом громадные замороженные белуги, в 2 аршина и более. В бочках — соленая рыба, рядом в окоренках — икра всевозможных сортов. Над прилавком висели громадные коромысловые весы с медными цепями и тарелками, рядом — маленькие чашечные весы. Такие садки стояли на Неве, Невках и Фонтанке» (Засосов Д., Пызин В. «Из жизни Петербурга 1890-х — 1910-х годов»). См. также в ст-ниях Валентина Горянского «Наводнение»: «Даже Фонтанка вздыбилась гордо, / Тиская дряхлый живорыбный садок» и Саши Черного «Невский»: «К граниту жмется рой садков, / Фонтанка даль осеребрила». Судя по всему, обладателя «перхотного воротника» ведут топить к садку, принадлежавшему фирме «В. Лебедев и И. Баранов», располагавшемуся на Фонтанке у Семеновского моста, напротив д. № 92. Вероятно, именно упоминание о «живорыбных садках» спровоцировало автора «ЕМ» в финале комментируемого фрагмента воспользоваться сравнением страха с бондарем (то есть выделывателем бочек, стоящих близ садка). Страх подгоняет людей друг к другу, как доски, из которых бондарь сколачивает бочки. О страхе и самосуде см. также в позднейшей «Четвертой прозе» О. М.: Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни для пленников. Как мальчишки топят всенародно котенка на Москве-реке, так наши веселые ребята играючи нажимают, на большой переменке масло жмут. Эй, навались, жми, да так, чтоб не видно было того самого, кого жмут, — таково священное правило самосуда (3: 169).Нельзя ли предположить, что изображение обладателя «злополучного воротника», который «ценился дороже соболя и куницы», пародийно соотносится с тем самым портретом Бозио из ст-ния Некрасова «О погоде», который послужил одним из стимулов для ее появления в «ЕМ»: «…Чванный Петрополь / Не жалел ничего для нее. / Но напрасно ты кутала в соболь / Соловьиное горло свое»? № 83. Затылочные граждане, сохраняя церемониальный порядок, Центральное сравнение этого фрагмента продолжает тему «стройных, бесконечных, ассирийских рядов» (цитируя роман Евгения Замятина «Мы»), ключевую для всего эпизода самосуда в «ЕМ». Шахсе-Вахсе (Шахсей-Вахсей или Ашура), у шиитов день поминовения имама Хусейна, убитого 10-го числа месяца мухаррама (680) в бою при Кербеле. Траурные церемонии в первые 10 дней мухаррама состоят из мистерий, изображающих события из жизни халифа Али и Хусейна (таазие); сопровождаются самоистязанием наиболее фанатичных участников. От их возгласов «Шах Хусейн, вах, Хусейн!» происходит название Шахсей-Вахсей. О том, как О. М. в Тифлисе видел процессию Шахсей-Вахсей, во «Второй книге» вспоминала Н. Мандельштам: Однажды на базаре нас остановила мощная процессия «шахсе-вахсе». Она была последней, потому что на следующий год ее запретили — и навсегда. Под равномерные звуки восточных барабанов шли полуголые люди, ритмически хлеставшие себя кожаными плетками. Они держались стройными прямоугольниками. За ними в том же порядке люди с кинжалами с более сложными ритмическими движениями. Один к одному, совершенно точно и одновременно они поднимали то правую, то левую ногу и наносили себе удар кинжалом все в одно и то же место. Это было бы похоже на балет, если бы не струйки крови, сочившейся из ран. Шли верблюды, ослы и кони в прекрасных попонах. На них ехали женщины и дети — семейство брата Магомета, в память убийства которого разыгрывался весь спектакль. На большом коне провезли голубя, а на другом верхом ехал странно качавшийся всадник. В спину у него был воткнут кинжал, и на белой одежде сверкала свежая кровь. Толпа зрителей то и дело шарахалась от страха, и мы тоже вместе с толпой. Я хотела бежать, но Мандельштам меня удерживал и заставил достоять до конца бесконечной процессии. Все участники выкликали хором два каких-то коротеньких слова, и эти выклики служили единственным регулятором ритма всего сложнейшего и кровавого балета. Говорят, что в прежние годы европейца, случайно оказавшегося в толпе зрителей, мусульмане бы немедленно растерзали. Процессия направлялась к холму под самым городом. Там тоже происходили какие-то ритуальные действия, но туда сунуться мы не решились. На следующий день все торговцы на базаре ходили в марлевых перевязках. И хозяин в чайной, где мы всегда пили поразительный персидский чай в маленьких стаканчиках, тоже был весь забинтован.Ср. также в четырнадцатой главке части третьей второй книги «Люди, годы, жизнь» еще одного свидетеля этого «кровавого балета» — Эренбурга: Различные века сосуществовали в этом удивительном городе. Я увидел праздник мусульман-шиитов — «шахсей-вахсей». На носилках, изукрашенных цветистыми коврами, несли безликих персиянок. Вокруг сновали молодые люди; костюмированные всадники нещадно хлестали их кнутами. За ними следовали сотни полуголых мужчин, ударявших себя в спину железными цепями. Гремела музыка. Главными актерами были люди в белых халатах; раскачиваясь, они выкрикивали «шахсей-вахсей!» и били себя саблями но лицу. На ярком солнце кровь казалась краской.Приведем еще цитату из «Смерти Вазир-Мухтара» (1927) Тынянова: Близок печальный месяц мухаррем, когда убили святого имама Хуссейна. Будут резать себя саблями давшие обет. Будут окрашены кровью белые саваны, в которые они облекутся. Проткнут себя иглами и ущемят замками свое мясо. Пеплом посыплют себе головы. И актера, который будет изображать проклятого Ибн-Саада, въехавшего на черном коне, чуть не растерзают эти же вот старики и купцы, которые пьют кофе из чашечек так спокойно. И, засветив восковые свечи, во второй день ашуры будут искать по дворам исчезнувшего пророка, остатков его.О других возможных тыняновских подтекстах комментируемого эпизода см.: Ронен 2002: 146–149. № 84. И Парнок кубарем скатился по щербатой бесшвейцарной лестнице, Возможно, в зачине комментируемого фрагмента речь идет о традиционно неухоженной лестнице петербургского черного хода, а, может быть — о запущенной, после Февраля 1917 г., лестнице парадного подъезда. Абсурдная, на первый взгляд, фраза, механически повторяемая Парноком, продолжает живодерскую тему «ЕМ». Она содержит память о том, что пуговицы бывают роговыми и костяными, то есть делаются из рогов и костей домашних животных. Более того, для изготовления искусственной слоновой кости, тоже служащей материалом для пуговиц, используется так называемая кровяно-костяная масса, в состав которой входит бычачья кровь. Ср. в «Зависти» (1927) Олеши: Так, собираемая при убое кровь может быть перерабатываема или в пищу, для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, землеудобрительных туков и корма для скота, птицы и рыбы. Сало-сырец всякого рода скота и жиросодержащие органические отбросы — на изготовление съедобных жиров: сала, маргарина, искусственного масла, — и технических жиров: стеарина, глицерина и смазочных масел. Головы и бараньи ножки при помощи электрических спиральных сверл, автоматически действующих очистительных машин, газовых опалочных станков, резальных машин и шпарильных чанов перерабатываются на пищевые продукты, технический костяной жир, очищенный волос и кости разнообразных изделий(параллель отмечена в: Жолковский: 150). По менее убедительному предположению П. М. Нерлера, комментируемая фраза отсылает к той сцене «Пер Гюнта» Ибсена, в которой Пуговичник собирается переплавить главного героя в котле для изготовления пуговиц (Нерлер: 410). С мотивом пуговицы О. М., вероятно, собирался связать отдельную сюжетную линию повести, в итоговом варианте отброшенную. См. в черновиках к «ЕМ»: «В [окнах] витринах нашего [громадного] зеркального дворца на одной из классических площадей Петербурга вращались приводимые в движение электричеством громадные показательные пуговицы» (2: 567); и: «Сотрудник Дома Пуговицы томился лимонадной простудой и скучал в женском обществе. Он начал рассказ» (2: 567). В первом из процитированных отрывков, согласно наблюдению Сергея Гаркави, идет речь о модном ателье Бризака, располагавшемся по адресу: Каменноостровский проспект, д. 24а (здесь некоторое время жил сам О. М. у родителей). Аргументацию и другие гипотезы см.: http:/alik-manov.livejournal.com/393192.html#comments. № 85. Время, робкая хризалида, обсыпанная мукой капустница, В роли символа времени и бессмертия души бабочка выступала уже у античных авторов: душа-Психея часто изображалась греками (ср. далее о хризалиде) как девушка с крыльями бабочки. Ср. с интерпретацией бабочки у автора «ЕМ» в комментаторских заметках Н. Мандельштам: «Она всегда служит для О. М. примером жизни, не оставляющей никакого следа: ее функция — мгновение жизни, полета и смерть» (Новые стихи: 436). Строку «В суматохе бабочка летает» находим в том самом ст-нии О. М. («Чуть мерцает призрачная сцена…», 1920), в последней строфе которого исследователи видят портрет Бозио (см. комм. № 21). Ср. еще в «Путешествии в Армению»: «Среди яфетических книг с колючими шрифтами существовала так же, как русская бабочка-капустница в библиотеке кактусов, белокурая девица» (3: 184), где с капустницей сравнивается не бледная еврейка, а светловолосая русская девушка. См. также начальные строки ст-ния О. М. 1935 г., описывающие капустницу: «Не мучнистой бабочкою белой / В землю я заемный прах верну». Хризалида (греч.) — куколка бабочки. Это слово встречается у многих русских и европейских поэтов XIX — начала ХХ вв. См., например, большое ст-ние Аполлона Григорьева «Песня духа над хризалидой» (1845), ст-ние Цветаевой «Душа, не знающая меры…» (1921): «Душа хлыста и изувера, / Тоскующая по бичу. / Душа — навстречу палачу, / Как бабочка из хризалиды! / Душа, не съевшая обиды, / Что больше колдунов не жгут» и, особенно, ст-ние Бодлера «Флакон»: «Минувшие мечты, восторги и обиды, / Мечты увядшие — слепые хризалиды, / Из затхлой темноты, как бы набравшись сил, / Выпрастывают вдруг великолепье крыл» (о бодлеровских мотивах в повести О. М. см. комм. № 2 и № 25). Капустница-белянка — широко распространенная в средней полосе России невзрачная бабочка с легко осыпающейся пыльцой. «Грустные» дочки часовщика-еврея будут упомянуты во фр. № 88 (сам «часовщик» в комментируемом фрагменте, по-видимому, воплощает еще одну ипостась времени). А метафора девушка-еврейка — память возникнет во фр. № 158: «Память — это больная девушка-еврейка, убегающая ночью тайком от родителей на Николаевский вокзал: не увезет ли кто?» В финале фрагмента обыгрывается идиома «глаза бы не глядели». Девушка-еврейка или ребенок-еврей — невольный свидетель жестокости взрослых русских мужчин (погрома или в нашем случае — самосуда) — частый персонаж русской и советской прозы. Ср., например, в рассказе-воспоминании Бабеля «История моей голубятни»: «Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте». № 86. Не Анатоля Франса хороним в страусовом катафалке, Зачин комментируемого фрагмента продолжает одну из ключевых тем «ЕМ» — тему смерти и похорон человека искусства (ср. в комм. к фр. № 2, а также фр. № 27 и др.). О похоронах Анатоля Франса (умершего 12 октября 1924 г.) О. М. мог прочитать, например, в очерке Тана (В. Г. Богораза) «За чертою оседлости»: «Построили трибуну над Сеной. И пришли депутации, и речи говорили с эстрады» члены французского правительства «Эррио и Леон Блюм и другие политические шаманы. На мосту задержали движение, и тотчас же поневоле вырос кортеж экипажей, пешеходов и вагонов. В Париже легко могут создать свиту любому катафалку. Стóит лишь перевязать пульс на какой-нибудь уличной артерии» (Россия. 1925. № 5. С. 216). См. также: Французская печать об Анатоле Франсе / Правда. 1924. 15 октября. «Страусовым» катафалк с телом Франса назван потому, что в викторианскую эпоху перед траурной процессией шествовали специально нанятые служащие похоронных бюро, несшие огромные и связанные проволокой пучки черных страусовых перьев. Ср. со строкой Ходасевича «Как страуса на черном катафалке…» из его ст-ния «Зима» (1913). Еще ср. в мемуарной книге М. Добужинского «Петербург моего детства»: «Меня занимали и окна “гробового мастера” Шумилова — там были выставлены гербы на овальных щитах, настоящие белые и черные страусовые перья и другие траурные украшения и длинные картинки, изображающие похоронную процессию с лошадьми в попонах и с факельщиками около колесниц». Слово «пирамида» привносит в комментируемый фрагмент «египетский» колорит. Кажется весьма вероятным, что описываемые О. М. похороны великого французского романиста символизируют тот самый «конец романа», о котором О. М. выразительно писал в одноименной заметке 1922 г.: «Дальнейшая судьба романа будет не чем иным, как историей распыления биографии, как формы личного существования, даже больше, чем распыления, катастрофической гибелью биографии» (2: 274). Собственно, «распыление» и «катастрофическая гибель биографии» и положены в сюжетную основу «ЕМ» (о классическом французском романе в соотношении с «ЕМ» см. также комм. № 34). В издевательском тоне похороны Франса описывались в манифесте сюрреалистов. См. подробнее, например: Печать и революция. 1925. Март–Апрель. С. 312. См. также в памфлете сюрреалистов «Труп», где, как и у О. М., Анатоль Франс предстает воплощением классического французского романа. Далее в нашем фрагменте идет речь о трудоемком процессе смены трамвайных проводов — ночью (чтобы не нарушать движения) и с помощью специальных громоздких платформ. О живорыбных садках на Фонтанке подробнее см. в комм. № 82 и др. К семантике «живорыбного садка» у О. М. см. еще строки из его ст-ния «Нашедший подкову» (1923): «Воздух бывает темным, как вода, и все живое / В нем плавает как рыба». Самосуд из-за украденных часов — частая примета петроградского быта и газетных хроник мая–июня 1917 г. См., например, заметку о митинге возле Екатерининского дворца: Неизвестный сделал несколько выкриков по адресу буржуазии и затем скрылся в толпе. Через несколько минут один из рабочих стал кричать, что у него вытащены часы и что он подозревает в краже неизвестного. Последнего задержали и в кармане брюк его действительно нашли похищенные часы с цепочкой <…> Публика пришла в такую ярость, что стала требовать народного суда над вором <…> Получив арестованного, публика сама повела его якобы в суд и по пути учинила над ним жестокую расправу (Петроградский листок. 1917. 30 мая. С. 5).А. К. Жолковский как на один из источников комментируемого эпизода указывает на следующие строки из шестой главы поэмы Маяковского «Хорошо» (1927): «Какой-то / смущенный / сукин сын, / а над ним / путиловец / нежней папаши: / “Ты, / парнишка, / выкладай / ворованные часы — / часы / теперича / наши!”» (Жолковский: 147). Ср. также в цикле Некрасова «О погоде»: «Ускользнут ли часы из кармана, / До костей ли прохватит мороз / Под воинственный гром барабана, / Не жалею: я истинный росс!» Под часами «белого кондукторского серебра», возможно, подразумеваются специальные казенные часы с точным ходом, которые выдавались обер-кондукторам, дежурившим на конечных станциях маршрутов петербургских трамваев. С помощью этих часов кондукторы задавали время отправки вагонов в рейс и вели учет выполненных рейсов. Основные заказы, связанные с обеспечением движения трамваев в Петербурге, долгое время выполнялись американским электротехническим обществом «Вестингауз». Может быть, именно поэтому в комментируемом отрывке «часы белого кондукторского серебра» названы «американскими». «Лотерейные часы» — это часы, выигранные в лотерею, даровые, как и казенные, обер-кондукторские. См. еще вариант из черновиков к «ЕМ», где речь также идет о даровых часах: «[— Пропадай человечек за чужие часы, за часы <немудреного> <полицейского> заграничного серебра, за призовые часы с петергофского тира, испей человечек керосиновой мутн<ой> водицы» (2: 568). № 87. Погулял ты, человечек, по Щербакову переулку, поплевал «Человечком» во фр. № 44 назван сам Парнок. Почти все реалии комментируемого фрагмента вновь сгруппированы вокруг Фонтанки, на этот раз по обеим сторонам от Невского проспекта. По адресу Щербаковский переулок, д. 6 располагалась татарская мясная лавка, торговавшая кониной (поэтому на нее и «плюют» как на нехорошую). Мотив «нехороших татарских мясных» лавок продолжает тему живодерства в «ЕМ». В этом же переулке помещались Щербаковские бани (которые снесли в 1988 г.). Цирк, организованный наездником и дрессировщиком Гаэтано Чинизелли, был открыт напротив Инженерного замка 26 декабря 1877 г. Конюхами в нем служили татары. Они же (фирма «Мусин и наследники») торговали красной рыбой с живорыбного садка на Фонтанке у д. 8. Здание цирка построено по проекту архитектора Василия Кенеля. В 1919 г. тогдашний владелец цирка Спициона Чинизелли (средний сын Гаэтано Чинизелли) навсегда уехал из Советской России. В годы Первой мировой войны была мобилизована почти половина работников петербургской трамвайной службы, число вагонов на линиях резко сократилось, строительство новых линий замедлилось, позднее часть вагонов использовалась для перевозки грузов, а также больных и раненых солдат. Значительное сокращение выпуска вагонов на линии привело к их переполнению. Появились так называемые «висельники», то есть пассажиры, висевшие и державшиеся на подножках и буферах, предохранительных сетках и прочих выступавших частях вагонов. Ср. также во «Второй книге» Н. Мандельштам о Москве: «Якиманка была тогда концом света, а на трамваях висели гроздьями — не вишни, а люди». Тут подразумевается строка «Я трамвайная вишенка страшной поры» из ст-ния О. М. «Нет, не спрятаться мне от великой муры…» (1931), в которой, как и в комментируемом фрагменте, изображается висящий на поручне трамвайный пассажир. Гатчина была второй станцией по Варшавской железной дороге от петроградского Варшавского вокзала (набережная Обводного канала, д. 118). «Друг Сережка», по-видимому, проживал не на стороне дачного городка и двух парков, а по другую сторону железной дороги, в поселке, где ютились рабочие и мелкие служащие. Мемуарный очерк «Гатчина», посвященный последним дням Временного правительства и, в частности, поездке в Гатчину, в своем авторском сборнике «Издалека» (Париж, 1922) опубликовал А. Ф. Керенский. № 88. Сначала Парнок забежал к часовщику. Тот сидел Ср. с многочисленными мотивными перекличками во фр. № 158. Зачин отрывка отсылает к историческому факту из биографии Бенедикта (Баруха) Спинозы, некоторое время зарабатывавшего на жизнь шлифовкой линз. Ср. с репликой Генриэтты в пьесе Цветаевой «Приключение» (1918–1919): «Мои ж часы, любезные друзья, / Заведены часовщиком Спинозой». Ср. также в «Опавших листьях» Розанова: «Почти не встречается еврея, который не обладал бы каким-нибудь талантом; но не ищите среди них гения. Ведь Спиноза, которым они все хвалятся, был подражателем Декарта <…> Около Канта, Декарта и Лейбница все евреи-мыслители — какие-то “часовщики-починщики”» (параллель между записью Розанова и «ЕМ» подмечена Д. Галковским). По-видимому, эта параллель неслучайна: весь комментируемый фрагмент содержит комплекс автобиографических мотивов, сложно воплощающих тему еврейства в творчестве О. М. Ср. в «Шуме времени»: По существу, отец переносил меня в совершенно чужой век и отдаленную обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший восемнадцатый или даже семнадцатый век просвещенного гетто где-нибудь в Гамбурге. Религиозные интересы вытравлены совершенно. Просветительная философия претворилась в замысловатый талмудический пантеизм. Где-то поблизости Спиноза разводит в банках своих пауков (2: 362)и: У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? — Нет. Речь немецкого еврея? — Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? — Я таких не слышал. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы (2: 361–362).Ср. также в черновиках к очерку О. М. «Михоэльс» (1926): «…это часовщик, созерцающий зубчики в лупу, это еврей, созерцающий свой внутренний мир» (2: 558–559). Ср. еще в рассказе Бабеля «Рабби»: «И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини». Ср. и с характеристикой еврея в повести Эренбурга «В проточном переулке» (1926): «Прахов рассердился: и так ничего не клеится, а тут еще этот горбатый Спиноза со своими фантазиями!» С еврейской темой в русской литературе связаны и перечисляемые в финале комментируемого фрагмента «грустные дочки», «геморрой», «долги». Ср. также мемуарный фрагмент из «Второй книги» Н. Мандельштам (относящийся, впрочем, ко времени, когда «ЕМ» уже была написана): Еврей-часовщик похвалил механизм и эмаль. Выписывая квитанцию, он ахнул, услыхав фамилию, и побежал за женой. Оказалось, что она тоже Мандельштам и семья эта считается «ихесом», то есть благородным раввинским родом. Старуха никак не могла добиться от Мандельштама сведений о той ветке, из которой он вышел. Мандельштам даже не знал отчества своего деда. Старики пригласили нас в комнату за лавкой и вытащили из сундука большой лист с тщательно нарисованным генеалогическим деревом. Можно было бы предположить, что в комментируемом фрагменте речь идет о часовой мастерской еврея Аарона Фроловича Эльтермана, располагавшейся по адресу: Гороховая улица, д. 27 («ВП-17»: 788), однако там телефон имелся. У часовщика-еврея — персонажа «ЕМ» телефона могло не быть из-за его дороговизны. См., например, в заметке «Беспощадный налог на телефоны»: «Для абонентов публичного пользования плата установлена вместо 150 руб. в 300 руб., для абонентов коллективного пользования — 200 руб., вместо нынешних 100 руб.» (Петроградская газета. 1917. 10 июня). Марципан (итал. marzapane дословно — «хлеб Марта»), вид кондитерского изделия, готовящегося из сахарного сиропа и измельченного в муку миндаля. Ср. с воспоминаниями О. М. о еврейских сладостях, которыми потчевали его бабушка с дедушкой: «…не понравились мне пряные стариковские лакомства, их горький миндальный вкус» (2: 363). Куклы из марципана, украшавшие торты, пользовались большой популярностью в начале ХХ в. № 89. Наскоро приготовив коктейль из Рембрандта, козлиной испанской «Коктейль», который «наскоро» приготавливается Парноком, ассоциативно связан с биографией Спинозы: как и Рембрандт, Спиноза долгое время жил в Амстердаме, а его фамилия произошла от названия испанского города Espinosa. Возможно, О. М. в комментируемом фрагменте намекает и на многочисленные рембрандтовские портреты еврейских (библейских) стариков. Ср. также эссе Л. О. Пастернака «Рембрандт и еврейство в его творчестве» (1923). Испанская живопись названа «козлиной» как утрированно трагическая. Ср. со сходным (отчасти — сниженным) обыгрыванием этимологии слова «трагедия» (греч. τραγωδια, tragōdía, буквально — козлиная песнь, от trаgos — козел и ödе — песнь) в романе Вагинова «Козлиная песнь» (1927). Выходцами из Испании были домашние самого О. М., а также В. Я. Парнаха и (в черновом наброске) героя «ЕМ» Парнока (ср. в комм. № 110). Сопоставление в этом и в предыдущем отрывке «ЕМ» стрекота часов с лепетом цикад восходит к ст-нию Анненского «Стальная цикада»: «Я знал, что она вернется / И будет со мной — Тоска / Звякнет и запахнется / С дверью часовщика… / Сердца стального трепет / Со стрекотаньем крыл / Сцепит и вновь расцепит / Тот, кто ей дверь открыл». Ср. об этом ст-нии Анненского в заметке О. М. «Буря и натиск» (1923): «От “Стальной цикады” Анненского к “Стальному соловью” Асеева лежит прямой путь. Анненский научил пользоваться психологическим анализом как рабочим инструментом в лирике» (2: 293). Ср. еще с несколькими, восходящими к «Стальной цикаде» микрофрагментами прозы и стихов О. М.: «…часовщики давно закрыли лавки, наполненные горячим лопотаньем и звоном цикад» («Шум времени» (2: 386)); «Если прислушаться к прозе в эпоху процветания фольклора, то услышишь как бы густой звон сцепившихся в воздухе кузнечиков, — таков общий звук современной русской прозы, и не хочется разнимать этого звона, не выдуманного часовщиком, слагающегося из несметной тьмы крылышкующих трав и вер» («Литературная Москва. Рождение фабулы» (2: 264)); «Какая роскошь в нищенском селеньи — / Волосяная музыка воды! / Что это? пряжа? звук? предупрежденье? / Чур-чур меня! Далеко ль до беды! / И в лабиринте влажного распева / Такая душная стрекочет мгла, / Как будто в гости водяная дева / К часовщику подземному пришла». № 90. Бочком по тротуару, опережая солидную процессию самосуда, Разумеется, не все зеркальные лавки Петрограда в 1917 г. были «сосредоточены на Гороховой» улице, но действительно многие: например, лавки Афанасия Кузьмича Кузьмина: д. 44 (см.: «ВП-17»: 367), Арсения Ананьевича Минаева: д. 69 («ВП-17»: 451) и Исаака Лазаревича Тракинера — д. 36 («ВП-17»: 687). О зеркале как аналоге поэтики «ЕМ» и «характерном орудии модернистского смешения интерьера с городским пейзажем» (Жолковский: 141) см. в комм. № 9. Там упоминается и ст-ние Пастернака «Зеркало», которому в нашем отрывке находится прямое соответствие. Ср. у О. М.: «замороженные» в зеркале «кусочки улицы» и у Пастернака: «Зеркальная все б, казалось, нáхлынь / Непотным льдом облила». Ср. также в комментируемом фрагменте и в «Петербурге» Андрея Белого с использованием важного для «ЕМ» мотива псевдоспасительного телефона: Так обычные рои в эти дни возрастали чрезмерно и сливались друг с другом в многоголовую, многоголосую, огромную черноту; и фабричный инспектор хватался тогда за телефонную трубку: как, бывало, за трубку он схватится, так и знай: каменный град полетит из толпы в оконные стекла <…> на Невском проспекте та же все была циркуляция людской многоножки.Ср. в «Петербурге» и об уличных отражениях: «Вот, например, посмотрите: витрина… А в витрине-то — отражения: вот прошел господин в котелке — посмотрите… уходит… Вот — мы с вами, видите? И все — как-то странно…» Чешские зеркальщики считались одними из лучших в мире. В комментируемом фрагменте речь идет о чехе-стекольщике Ол. Вас. Гренце, державшем мастерскую чистки стекла и зеркал по адресу: Гороховая, д. 32 («ВП-17»: 182) — именно как чистильщик зеркал он гордится тем, что его фирма «незапятнанна» (о мотиве пятен в «ЕМ» см. в комм. № 93). По предположению А. А. Морозова, 1881 г. назван как год убийства Александра II (Морозов: 273). № 91. На углу Вознесенского мелькнул сам ротмистр Кржижановский Ср. с описанием встречи двух Голядкиных в «Двойнике» Достоевского: …пришлось ему уцепиться за шинель своего неприятеля, уже заносившего одну ногу на дрожки куда-то только что сговоренному им ваньки. «Милостивый государь! милостивый государь! — закричал он наконец настигнутому им неблагородному господину Голядкину-младшему. — Милостивый государь, я надеюсь, что вы…» Начинается комментируемый фрагмент с очередного и резкого пространственного смещения: Вознесенский проспект с Гороховой улицей не пересекается. Отмечено в: Isenberg: 108–109. Ср. в письме О. М. к Вячеславу Иванову от 13 августа 1909 г.: «У вас в книге есть одно место, откуда открываются две великих перспективы, как из постулата о параллельных две геометрии — Эвклида и Лобачевского» (4: 15). Ср. также в черновиках «ЕМ»: «Бабушка Парнока — Ревекка Парнок содержала “библиотеку для чтения”. Почтенное ремесло [этой] старушки [приводила молодого человека] льстила [молодому человеку] ему. Он гордился бабушкиной библиотекой на углу Возн<есенского> и Гороховой» (2: 577). Р. Д. Тименчик подметил, что этот факт (бабушка, державшая библиотеку) перенесен в черновой вариант жизнеописания Парнока из биографии Владимира Пяста (Тименчик: 436). Ср., впрочем, комм. № 182. О Пясте как прототипе главного героя «ЕМ» также см. комм. № 62 и 63. Появление ротмистра Кржижановского на Вознесенском проспекте, возможно, подчеркивает его роль в «ЕМ» как офицера. Ср. с мемуарным свидетельством: «На Садовую улицу и Вознесенский проспект выходили магазины, торговавшие новыми вещами (причем самыми разнообразными: одеждой и обувью), магазины с офицерскими вещами» (Пызин В. И., Засосов Д. А. «Из жизни Петербурга 1890-х — 1910-х гг.»). Однако «нафабренные усы» ротмистра это не только знак его офицерской мужественности, но и примета, роднящая Кржижановского с теми, кто творит самосуд (ведь в предыдущем фрагменте говорится о «тараканьей толпе»). Ср. с вариантом строки в позднейшем ст-нии О. М. «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933): «Тараканьи смеются усища». «Нафабривать, нафабрить усы или бакенбарды, намазывать фаброю (немецк. Farbe), красить, чернить, придавая им и лоск и жесткость» («Словарь В. И. Даля»). Farbe (немецк.) — цвет, краска. На ротмистре «солдатская шинель» вместо офицерской. Такие шинели после Февраля 1917 г. носили, маскируясь, многие офицеры. Ср., например, в «Тихом Доне» Шолохова: «В большинстве офицеры были молодые <…> На одном была внапашку накинута солдатская шинель с погонами, вшитыми насмерть». «Конногвардейский, принадлежащ. к конной гвардии, как у нас называется один полк. Конногвардеец, служащий в этом полку» («Словарь В. И. Даля»). В нашем фрагменте — расширительно — опять же офицер (с оттенком «офицер-мужлан»). Может быть, внимательный читатель должен вспомнить и о «конногвардейце Нарумове» из пушкинской «Пиковой дамы», о котором Лиза спрашивает Томского: «Он военный или статский?» Ср. также строки из письма Чернышевского, приводимые в статье К. Чуковского, сопровождавшей мемуары А. Панаевой: «Прилично ли, человеку в его лета возбуждать в женщине, которая была ему некогда дорога, чувство ревности шалостями и связишками, приличными какому-нибудь конногвардейцу?» Важно еще отметить, что Конногвардейский бульвар в Петербурге располагается в непосредственной близости от Вознесенского проспекта (устное наблюдение Г. А. Левинтона). О шашке — ср. с поговоркой: «Гусар без шашки — одни бляшки». В 1834 г. всем чинам драгунских полков начали заменять сабли более легкими шашками. В1848 г. такая замена произошла в пехоте и артиллерии (у офицеров) Кавказского корпуса. С 1881 г. шашка — повседневное оружие офицеров всех родов войск, а также рядовых кавалерии (исключая некоторые гвардейские полки). До октября 1917 г. шашки носились и полицейскими чинами. Офицер, шепчущий нежности даме, нередко встречается в произведениях русских писателей начала ХХ в. См., например, в «Романе маленькой женщины» Арцыбашева: «Офицер еще что-то шептал, и шепот его был горяч и страстен». «Колченогим» (в данном случае — кривоногим, с ногами колесом) Кржижановский назван как конногвардеец, кавалерист. Далее в нашем отрывке возникает еще одна характерная деталь облика офицера-кавалериста — шпоры на сапогах. Все эти «офицерские» мотивы собраны в комментируемом фрагменте для того, чтобы оттенить недостойное офицера поведение ротмистра Кржижановского, который, не стесняясь дамы и даже прикрываясь дамой, отказывается «обнажить оружие», чтобы защитить обреченного на страшную погибель штатского «человечка». Здесь, разумеется, нужно вспомнить и о том, что прототипом трусливого ротмистра послужил начальник петроградской милиции. № 92. Парнок бежал, пристукивая по торцам овечьими копытцами Ср. в «Петербурге» Андрея Белого: Оба они направились в одну сторону: на ходу господинчик старался совпасть в шаге с сенатором, что было воистину невозможно (шажки Аполлон Аполлоновича можно б было рассматривать под стеклом микроскопа). <…> Этот комочек из тела (Николай Аполлонович пятился, изогнутый неестественно) — этот комочек из тела семенил на двух подогнутых ножках… <…> Но когда она отошла, Николай Аполлонович медленно на нее обернулся и быстрехонько засеменил прочь. В комментируемом отрывке варьируются образы, уже встречавшиеся во фр. № 44. Новым является отчетливо выраженный мотив нелюбви толпы к таким людям, как Парнок. Ср. также в черновиках к повести: Музыкантская душа Парнока бежала по торцам за <?>, семеня овечьими копытцами лакированных туфель. Сам он, не замечая того, стал подозрителен и странен толпе. Его суетливость обратила на себя недоброе внимание коноводов. Парнок бежал, притукивая по торцам овечьими копытцами лакированных туфель. Больше всего на свете он боялся навлечь на себя опалу, недружелюбие, немилость толпы (2: 567).«Коновод, зачинщик, предводитель, затевала, голова делу» («Словарь В. И. Даля»). Слово «бежал» в зачине комментируемого фрагмента, возможно, отсылает к пушкинскому «Медному всаднику», где о «чудаке-Евгении» пять раз сказано: «бежит». Ср. там же о главном герое и «недолюбливающих» его детях: «Злые дети / Бросали камни вслед ему». Также ср. в «Бедных людях» Достоевского о чахоточном студенте Покровском: Сначала я, такая большая девушка, шалила заодно с Сашей, и мы, бывало, по целым часам ломаем головы, как бы раздразнить и вывесть его из терпения. Он ужасно смешно сердился, а нам это было чрезвычайно забавно. <…> Раз мы раздразнили его чем-то чуть не до слез, и я слышала ясно, как он прошептал: «Злые дети». Но еще важнее упомянуть о «Двойнике» Достоевского. Ср. особенно: «…господин Голядкин, вне себя, выбежал на набережную Фонтанки, близ Измайловского моста»; «…господин Голядкин, один со своим отчаянием, трусил в это время по тротуару Фонтанки своим обыкновенно мелким и частым шажком, спеша добежать как можно скорее в свою Шестилавочную улицу» и: «Прохожий <…> так же как и он, дробил и семенил по тротуару Фонтанки частым, мелким шажком, немного с притрусочкой…» Ср. в «Двойнике» и о «щелчке»: То чесалась голова господина Голядкина от какого-нибудь щелчка, недавно благоприобретенного и уничиженно принятого, полученного или в общежитии, или как-нибудь там, по обязанности, на который щелчок протестовать было трудно… И между тем как господин Голядкин начинал было ломать себе голову над тем, что почему вот именно трудно протестовать хоть бы на такой-то щелчок, — между тем эта же мысль о щелчке незаметно переливалась в какую-нибудь другую форму… <…> И все <…> уже гонят в толчки благонамеренного господина Голядкина, и уже сыплют щелчки в известного любовию к ближнему настоящего господина Голядкина!.. № 93. Товарищи в школе дразнили его «овцой», «лакированным копытом», О прозвище «египетская марка» см. комм. к заглавию повести (№ 1). См. также наблюдение О. Ронена, который отмечает, что «проза Мандельштама» «изобилует скрещенными приемами», «причем, будучи построены по принципу парономазии, загадки смешанного типа нередко носят характер шарады: в «Египетской марке», напр<имер>, имя героя (Парнок) и его клички (овца, лакированное копыто) представляют собой метонимическое расщепление слова парнокопытное (ср. в “Четвертой прозе”: “Я пришел к вам, мои парнокопытные друзья…”)» (Ронен 2002: 30). О смысловых (обидных) оттенках прозвища «овца» можно судить, например, по следующему отрывку из современной нам статьи о футболе: «В “бронзовой” команде 1954 года прозвища имели все. Были среди них и довольно обидные: техничного, но прятавшего ноги нападающего Юрова за инфантильность одноклубники прозвали Овцой» (см.: http:/www.pressball.by/news.php?t=1001&id=8845). См. также варианты прозвищ Парнока из черновиков к «ЕМ»: Не знаю почему, но иные люди обладают свойством навлекать на себя [гнев и ярость] подозрение толпы: О важном для «ЕМ» мотиве выводимого пятна см. в комм. № 1, 17 и 90. Издевательства мальчишек над Парноком как над «пятновыводчиком», по-видимому, содержат антисемитскую подоплеку. В XIX — начале ХХ в. «жидом» иногда называли чернильное или какое-либо другое пятно. Ср., например, в «Господине Прохарчине» Достоевского: «Случалось нередко, что какой-нибудь невинно зазевавшийся господин, вдруг встречая его беглый, мутный и чего-то ищущий взгляд, приходил в трепет, робел и немедленно ставил на нужной бумаге или жида, или какое-нибудь совершенно ненужное слово» (подробнее об этом месте у Достоевского см.: Богданов К. «Жид на бумаге»: историко-филологический комментарий к одному выражению в «Господине Прохарчине» / Новое литературное обозрение. № 104. 2010). А вот как пятновыводчик изображается в очерке Лескова «Еврей в России»: «Всякая поломка и починка откладывалась в небогатом помещичьем доме до прихода знакомого Берки или Шмульки, который <…> выводил каким-то своим, особенно секретным, мылом пятна из жилетов и сюртуков жирно обедавшего барина». Шутки мальчишек над Парноком, как кажется, того же свойства, что и описанные еще Пушкиным, а также многими другими авторами приставания русских к инородцу и иноверцу и показывание ему «свиного уха» (традиционное антисемитское прозвище для еврея): «Свернув трубкою воскраия одежд, безумцы глумились над еврейским возницею и восклицали смехотворно: “Жид, жид, ешь свиное ухо!..”» («История села Горюхина»). Ср. о самом О. М. у Г. Иванова: «С флюсом, обиженный, некормленый, Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишний раз на глаза хозяину или злой служанке. Всклоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел на берег, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы “свиное ухо”». Ср. еще с многократным обыгрыванием слова «пятно» в открытых письмах О. М. советским писателям (начало 1930 г.): Я заявляю в лицо Федерации Советских писателей, что она запятнала себя гнуснейшим преследованием писателя <…> Неужели вы могли подумать, что я буду дальше разгуливать с этим пятном в вашей среде только потому, что зачинщики травли оставили меня в покое? <…> Мне известно, что на конфликтной комиссии от 21-го июня говорилось о позорном пятнышке на моих ризах (4: 125, 127). Ср. также с мотивами ветоши и, соответственно, замаранной репутации в «Двойнике» Достоевского: …ведь и утерпеть-то не можешь ты, чтоб не провраться, как мальчишка какой-нибудь, канцелярист какой-нибудь, как бесчиновная дрянь какая-нибудь, тряпка, ветошка гнилая какая-нибудь…; № 94. Вот и Фонтанка — Ундина барахольщиков и голодных студентов Ундина (то же, что Лорелея) — в фольклоре народов Западной Европы дева — дух воды, мифическое существо, основные черты которого частью заимствованы из народных германских представлений о нимфах и русалках, частью из греческих мифов о наядах и сиренах. Ундины принимали облик прекрасных девушек; сидя на камнях, они расчесывали волосы и завлекали мужчин, которые не могли противиться их чарам. В комментируемом отрывке образ Ундины-Лорелеи гротескно снижен, в соответствии со всей тональностью эпизода самосуда. Ундина-Фонтанка привлекает в свои объятья «барахольщиков и голодных студентов», а в черновике к «ЕМ» еще и «маклаков», по-видимому, с Апраксина двора (2: 568). «Маклак, маклачина м. сводчик, посредник при продаже и купле; маклер, маяк, прах, прасол, кулак, барышник, перекупщик, базарный плут» («Словарь В. И. Даля»). О барахолках на берегах Фонтанки в пореволюционную эпоху см., например, в «Леньке Пантелееве» Алексея Пантелеева: «Здесь брала начало та огромная мутная человеческая река, именуемая барахолкой, которая заливала в те годы набережную Фонтанки и все прилегающие к ней улицы и переулки от Вознесенского до Гороховой». И далее, там же: «Все, что можно было купить и продать, и даже то, чего, казалось бы, уже нельзя было продать за полной изношенностью и обветшалостью, выносилось на барахолку». Упомянутый чуть выше черновик «ЕМ» предоставляет возможность понять, почему у студентов, гуляющих вдоль Фонтанки, «длинные сальные патлы» — их волосы принимают на себя свойства самой реки: «Вот и Фонтанка. [Грязная] Ундина маклаков, барахольщиков, голодных студентов[. Речка] с длинными сальными [волосами] патлами. [Жирная маслянистая Фонтанка с нефтяными разводами.] [Вот она] пе<тербургская?>…]» (2: 568) — ср., в первую очередь, в «Двойнике» Достоевского: «…в истощении сил, господин Голядкин остановился, оперся на перила набережной в положении человека, у которого вдруг, совсем неожиданно, потекла носом кровь, и пристально стал смотреть на мутную, черную воду Фонтанки». Ср. также в «Воспоминаниях старожила» (1921) А. Ф. Кони: «Вода Фонтанки сравнительно чистая, не напоминающая теперешнюю гнилую и вонючую бурду»; и в «Возвращении домой» (1931) Л. Я. Гинзбург: «Фонтанка блестит на солнце гранитом и сальной водой с рыжей и радужной накипью у парапета». О студенте, пытавшемся в мае 1917 г. предотвратить самосуд см. в комм. № 82. Там же см. о живорыбных садках, с которых продавали, в том числе, и раков, разумеется, еще не вареных (возможно, здесь О. М. вновь продолжает тему живодерства; о раках см. также фр. № 63 и комм. к нему). «Длинные сальные волосы» Фонтанки-Лорелеи (ср. в предыдущем фрагменте о «масляных» пятнах), в свою очередь, появились в черновиках О. М. в развитие образа из знаменитого ст-ния Гейне «Лорелея» (цитируем в переводе Блока): «Прохладой сумерки веют, / И Рейна тих простор; / В вечерних лучах алеют / Вершины далеких гор. / Над страшной высотою / Девушка дивной красы / Одеждой горит золотою, / Играет златом косы. / Златым убирает гребнем. / И песню поет она: / В ее чудесном пенье / Тревога затаена. / Пловца на лодочке малой / Дикой тоской полонит; / Забывая подводные скалы, / Он только наверх глядит» (о Лорелее, Рейне и рыбаке см. также в комм. к фр. № 29). Еще см. в финале важного для О. М. ст-ния Цветаевой «Германии» (1914): «Нет ни волшебней, ни премудрей / Тебя, благоуханный край, / Где чешет золотые кудри / Над вечным Рейном — Лорелей». В рассматриваемом же сейчас отрывке «ЕМ» Лорелея играет на «гребенке», причем «недостающие зубья» этой гребенки метонимически преображаются в отсутствующие зубы девы. Ср. в позднейшем ст-нии О. М. «Квартира тиха, как бумага…» (1933) с отчетливым уничижительным оттенком: «И я как дурак на гребенке / Обязан кому-то играть». О гребне Лорелеи см. также в ст-нии О. М. «Стансы» (1935): «Я помню все: немецких братьев шеи / И что лиловым гребнем Лорелеи / Садовник и палач наполнил свой досуг»; и в черновике ст-ния «Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток…»: «Лорелеиным гребнем я жив, я теку». О сломанной гребенке Бозио из мемуаров А. Панаевой см. в комм. к фр. № 24. О Малом театре см. в черновике «ЕМ»: «Пропадай человечек за чужие часы <…> [собери пугачевскую толпу] вычерни шапками глазеющих речку Фонтанку от Гороховой до Плюгавого театра <первонач.: плюгавого Малого Театра>, что за [живорыбным садком] дровяными баржами и гранитными сходнями, где стоят гончары]» (2: 568; о гончарах см. фр. № 96). Подразумевается Литературно-художественного общества театр (Суворинский, Малый), помещавшийся на набережной Фонтанки, д. 65. Театр был построен в 1878 г. архитектором Л. Ф. Фонтана, по заказу графа А. Апраксина — тогдашнего владельца Апраксина двора. В 1901 г. здание сгорело, но к 1902 г. оно было восстановлено (реконструкция А. К. Гаммерштедта). Закрылся Малый театр в 1917 г. Ныне в нем располагается Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова. «Плюгавым» в комментируемом фрагменте «ЕМ» театр Суворина назван, во-первых, как синонимически соответствующий «малому» (отсюда в черновике большая буква: «Плюгавого театра» вместо «Малого театра»), во-вторых, как художественно несостоятельный (может быть, в подразумеваемом сравнении с московским Малым театром). Напомним, например, о громком скандале вокруг постановки в 1900 г. в Суворинском театре пьесы «Контрабандисты» С. Литвина-Эфрона и В. Крылова. Л. Яворская публично отказалась от главной роли, а ее муж, князь Барятинский в своей газете «Северный курьер» (№ от 22 ноября 1900 г.) писал: «Возбуждая страсти и дурные инстинкты толпы, антисемитизм на сцене может привести к новым погромам». Об антисемитизме Суворина в связи с комментируемым фрагментом «ЕМ» см. также: Фейнберг: 45. О художественной несостоятельности суворинского Малого театра см., например, еще: «Вначале свежесть дарования, приятная, на первый взгляд, свобода от разных условностей, “академизмов” и рутины. Потом быстрое приспособление к рынку, господство на нем, торжество беспринципности, и, наконец, столь же быстрое падение и омертвение» (Негорев Н. Об одном десятилетии / Театр и искусство. 1905. № 38). Мельпомена Малого театра предстает у О. М. «облезлой» и «лысой» в паре с Лорелеей, играющей на гребенке. Ср., например, с портретом потасканной женщины в «Севастопольском мальчике» (1902) Станюковича: «Старая, с угрюмым морщинистым лицом и злыми маленькими пронзительными глазами, похожая на ведьму, поднялась Даниловна с табуретки»; и с изображением мифологической богини в «Козлиной песни» Вагинова: «Неизвестный поэт по другую сторону стоит перед рыночным антикваром, рассматривает старую, косматую, похожую на ведьму Венеру, одной рукой она ведет большеголового амура, в другой держит балалайку». Пачули — духи с крепким, но дешевым запахом. Ср., например, в «Безотцовщине» Чехова: «От него так несет этими несносными пачулями, что мне даже дурно делается». Отметим, что фасад театра Суворина украшен двумя псевдоантичными гротескными масками  Суворинский театр (БДТ) № 95. Что же! Египетский мост и не нюхал Египта, и ни один Египетский мост через Фонтанку соединяет между собой Коломенский и Безымянный острова. Он был построен в 1825–1826 гг. по проекту и под руководством инженеров В. фон Треттера и В. А. Христановича. На порталах и ажурной решетке моста красовались имитации египетских иероглифов; на берегах Фонтанки, при въездах на мост были расположены четыре скульптуры сфинксов, лежащих на гранитных постаментах. Их изваял скульптор, академик П. П. Соколов. На головах у сфинксов помещались шестигранные фонари. 20 января (2 февраля) 1905 г. по мосту проходил эскадрон гвардейской кавалерии, навстречу ему двигались 11 саней с возницами. В этот момент мост рухнул на лед Фонтанки. Вместо разрушенного моста рядом, в стороне от Лермонтовского проспекта, в створе переулка Усачева, был построен деревянный семипролетный мост, безо всяких украшений, который проработал до 1956 г. Поэтому в комментируемом фрагменте новый «Египетский мост», в отличие от старого, «и не нюхал Египта». Старо-Калинкин мост находится неподалеку от Египетского. Этот мост очень часто изображался на картинах петербургских художников. Он был построен по проекту М. И. Рылло в 1892–1893 гг. Выше моста по течению Фонтанки в нее впадает канал Грибоедова. По набережной Фонтанки через этот канал перекинут Мало-Калинкин мост. Названы Калинкины мосты были не по фамилии безвестного Калинкина (как это следует из иронического комментария в «ЕМ», обыгрывающего фамилию председателя ВЦИК М. И. Калинина), а по располагавшейся рядом с мостами деревне Калинкино (первоначально — финск. Кальюла и Каллина). Ср.: Багратиони-Мухранели: 155. В «ВП-17» насчитывается пять Калинкиных (ВП-17: 291). Формула порядочный человек употребляется во многих произведениях Гоголя. См., например, начиная со знаменитого: «Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья» («Мертвые души»); «…у порядочного человека не оторвут носа» («Нос»); «Что ж ты себе забрал в голову, что, кроме тебя, уже нет вовсе порядочного человека» («Записки сумасшедшего») и проч. Это позволяет соотнести Калинкин мост из «ЕМ», который «ни один порядочный человек в глаза не видал», с Калинкиным мостом из гоголевской «Шинели», а самого Калинкина из повести О. М. с призраком Башмачкина из повести Гоголя: «По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы». Возможно, в комментируемых фрагментах «ЕМ» содержится отсылка и к следующему обширному отрывку из повести Григория Белых и Алексея Пантелеева «Республика ШКИД» (1926, изд. в 1927): Костя не торопился. Он доставал из парты томик любимого Гейне, засовывал в карман оставшийся от обеда кусок хлеба и уходил. Косте еще не довелось мучиться, ожидая любимую где-нибудь в условном месте, около аптеки или у ларька табтреста. Костино сердце дремало и безмятежно отстукивало секунды его жизни. Костя любил только Гейне и сквер у Калинкина моста. Скверик был маленький, грязноватый, куцый, обнесенный жидкой железной решеткой, но Косте он почему-то нравился. Каждый день Костя забирался сюда. Здесь, в стороне от шумной улицы, усевшись поудобнее на скамье, он доставал хлебную горбушку, раскрывал томик стихов и углублялся в чтение. Стоило только Костиным глазам скользнуть по первым строчкам, как все окружающее мгновенно исчезало куда-то и вставал новый, невиданный мир, играющий яркими цветами и красками. Костя поднимал голову и, глядя на темнеющую за решеткой Фонтанку, вдохновенно декламировал: № 96. Несметная, невесть откуда налетевшая человечья саранча Сравнение-идиома («народу как саранчи»), использованное в зачине комментируемого фрагмента, вероятно, отсылает к библейской восьмой казни для египтян — нашествию саранчи (Исх. 10: 1–19): «И напала саранча на всю землю Египетскую и легла по всей стране Египетской в великом множестве: прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой». Ср. также, например, во втором томе «Мертвых душ» Гоголя: «Наехали истребители русских кошельков, французы с помадами и француженки с шляпками, истребители добытых кровью и трудами денег — эта египетская саранча, по выражению Костанжогло». О живорыбных садках на Фонтанке см. в комм. № 82 и след. Баржи с дровами — одна из отличительных примет вида Фонтанки первой трети ХХ в. Гранитные спуски и «пристаньки» на этой реке часто использовались как склады для дров, которые подвозили по воде и уже оттуда продавали горожанам для отопления. Скопившиеся дровяные баржи нередко образовывали на Фонтанке своеобразные «пробки». О мотиве дров в «ЕМ» см. еще фр. № 17, 50, 200 и др. Ср. также в ст-ниях Веры Аренс «Фонтанка»: «И усталыми глазами / Провожаю здесь в тиши / Нагруженные дровами / Тупоносые баржи»; и Анны Таль «Я помню все — гранитные перила…»: «И Летний Сад, и баржи на Фонтанке…» О еще одной выразительной примете берегов Фонтанки — ладожских гончарах см. в строфах, открывающих позднейшее ретроспективное ст-ние Всеволода Рождественского «Гончары» (1961): «По ладожским сонным каналам, / Из тихвинских чащ и болот / Они приплывали, бывало, / В наш город, лишь лето придет. / Пройдется заря спозаранку / По стеклам громад городских, — / Они уже входят в Фонтанку / На веслах тяжелых своих. / Их день трудовой некороток / В плавучем и зыбком гнезде / У ржавых чугунных решеток, / У каменных спусков к воде». Ср. также в ст-нии самого О. М. «Вы, с квадратными окошками, невысокие дома…» (1924): «А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар, / Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар!» О загрязненной воде Фонтанки см. в комм. к фр. № 94 и 96. Ср. еще в поэтических произведениях Хармса «Пророк с Аничкова моста» (1926): «О непокорный! Что же ты / глядишь на взмыленную воду?» и Михаила Струве «Петербург»: «И листья желтые, осенние прикрасы, / В Фонтанку мутную торжественно летят». № 97. Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, «Контрастным» подтекстом для этого фрагмента, возможно, послужил следующий отрывок из «Шинели» Гоголя, изображающий кротость и рассеянность Акакия Акакиевича: «Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту пору». См. также в «Легенде о Тиле Уленшпигеле» Шарля де Костера: «Никого не любя, злосчастный нелюдим не решался заигрывать с женщинами. Он прятался в каком-нибудь дальнем закоулке, в какой-нибудь комнатушке с побеленными известью стенами и узкими окошками — там он грыз пирожное, и на крошки тучами летели мухи. Лаская сам себя, инфант медленно давил мух на оконном стекле, давил сотнями, и прекращал избиение только из-за сильной дрожи в пальцах». Кроме того, комментируемый фрагмент может быть сопоставлен с тем местом из «Шума времени» О. М., в котором описывается глумление сильных над слабыми в Тенишевском училище, где «пробивалась военная, привилегированная, чуть ли не дворянская струя; это верховодили мягкотелыми интеллигентами дети правящих семейств, попавших сюда по странному капризу родителей. Некий сын камергера Воеводский, красавец с античным профилем в духе Николая I, провозгласил себя воеводой и заставил присягать себе, целуя крест и Евангелие»(2: 369). О том, что «в творчестве Мандельштама образы “горячей жидкой пищи” принадлежат к отрицательному семантическому полю и несут неизменный общий смысл круговой, разделенной беды и стыда» с цитацией комментируемого фрагмента писал О. Ронен (Ронен 2010: 3–84). Утопление жалкого воришки в Фонтанке предстает у автора «ЕМ» апофеозом и символом революции как торжества беззакония и жестокости. Самозванец-Петербург объявляет себя императором, да еще и одним из самых жестоких императоров в мировой истории — Нероном (Нероном Клавдием Цезарем Августом Германиком), приведенным к власти с помощью коварства, измен и убийств. Уподобление событий, творящихся в России, правлению Нерона имеет богатую традицию в отечественной литературе. См., например, в эпиграмме Пушкина на Аракчеева: «В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон: / Кинжала Зандова везде достоин он»; в написанной после смерти Ленина пьесе Кузмина «Смерть Нерона», а также в дневнике Пришвина 1918 г.: «Так любовался Нерон на Рим горящий, и так, вероятно, кто-то любуется горящей Россией». Учитывая важность для «ЕМ» мотива пожара, выскажем предположение, что Нерон в комментируемом фрагменте появляется еще и как император, поджегший Рим (легенда, правдивость которой отстаивал Светоний). Ср. хотя бы с финалом раннего эпатажного ст-ния Бальмонта «Я люблю далекий след — от весла…» (1899): «Если я в мечте поджег — города, / Пламя зарева со мной — навсегда. / О, мой брат! Поэт и царь — сжегший Рим! / Мы сжигаем, как и ты — и горим!» Упоминание о похлебке из раздавленных мух завершает тему живодерства, ключевую для IV главки «ЕМ», а также тему множества отвратительных, лишенных индивидуальности насекомых, начатую чуть выше сравнением толпы с тараканами и саранчой: в такой перспективе похлебку с мухами зрительно напоминает Фонтанка, облепленная участниками самосуда и любопытствующими. № 98. Однако он звонил из аптеки, звонил в милицию, Подразумевается идиома «сонное царство», которой придается зловещий оттенок: ведь сонный окунь — это вынутый из воды, мертвый окунь. Ср. в «Словаре В. И. Даля»: «Сонная рыба, снулая, сненая, неживая, мертвая». Ср. с обыгрыванием этого же значения в «Смерти Вазир-Мухтара» Тынянова: «Спать он не спал, но и не бодрствовал. Он был как сонная рыба». См. также в варианте строфы из ст-ния самого О. М. «О, как мы любим лицемерить…» (1932): «Но не хочу уснуть, как рыба / В глубоком обмороке вод / И дорог мне свободный выбор / Моих страданий и забот». По черновику к «ЕМ» мы можем установить точный адрес аптеки, откуда звонил Парнок: «Однако он звонил из аптеки, что на Гороховой у Полицейского моста, звонил в милицию, звонил Правительству, исчезнувшему, уснувшему, как окунь, государству» (2: 568; отметим, что в одной фразе тут соседствуют упраздненная полиция и учрежденная 15 июня 1917 г. милиция). Описание этой аптеки см. также в повести Б. Садовского «Под Павловым щитом» (1910): «В те времена у Полицейского моста торчал еще маленький зеленоватый домик в три окна; на огромной живописной вывеске пестрели львы, единороги, арапы, под ними подпись: “Аптека”». Подразумевается аптека Фридландера (Гороховая, д. 24; номер телефона: 1162; владелец Оскар Васильевич Пель), находившаяся у Каменного моста, в свою очередь, располагавшегося параллельно Полицейскому мосту. Характерно, что эту точную отсылку автор «ЕМ» в итоге снял. Из черновика также видно, что О. М. первоначально собирался скрестить мотив окуня с мотивом живорыбного садка: «Он купил по случаю окуня в живорыбном садке, чтобы умилостивить суровую Эмму» (2: 578). № 99. С тем же успехом он мог бы звонить к Прозерпине или к Персефоне, Прозерпина (лат. Proserpina), в древнеримской мифологии богиня подземного царства, соответствующая древнегреческой Персефоне, дочь Юпитера и Цереры. Вероятно, в комментируемом фрагменте содержатся иронические отсылки к «античным» ст-ниям самого О. М. 1916–1920 гг.: «Но здесь душа моя вступает, / Как Персефона, в легкий круг» («Меганом», 1917); «Когда Психея-жизнь спускается к теням / В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной» (начальные строки ст-ния 1920 г.); «Возьми на радость из моих ладоней / Немного солнца и немного меда, / Как нам велели пчелы Персефоны» (начальные строки ст-ния 1920 г.) и, особенно, к петербургскому ст-нию поэта 1916 г.: «В Петрополе прозрачном мы умрем, / Где властвует над нами Прозерпина. / Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, / И каждый час нам смертная година. / Богиня моря, грозная Афина, / Сними могучий каменный шелом. / В Петрополе прозрачном мы умрем, — / Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина». Ср. со сходным снижением образа Прозерпины в «Петербурге» Андрея Белого: «Не прекрасная Прозерпина уносится в царство Плутона чрез страну, где кипит белой пеной Коцит: каждодневно уносится в Тартар похищенный Хароном сенатор на всклокоченных, взмыленных, вороногривых конях; над вратами печального Тартара бородатая повисает кариатида Плутона. Плещутся флегетоновы волны: бумаги». В этих строках Белого, как, возможно, и у О. М., содержится отсылка к начальным строкам ст-ния Пушкина «Прозерпина»: «Плещут волны Флегетона, / Своды Тартара дрожат». В «ЕМ» пародийным «Флеготоном» (огненной рекой в Аиде) предстает Фонтанка. Важную параллель к комментируемому отрывку содержит следующий микрофрагмент книги Шкловского «Zoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза» (1923): «Плыву, соленый и тяжелый от слез, почти не высовываясь из воды. Кажется, скоро потону, но и там, под водою, куда не звонит телефон, и не доходят слухи, где нельзя встретить тебя, я буду тебя любить» (Шкловский: 277). Эти строки Шкловского, в свою очередь, вероятно, навеяны строфой из ст-ния О. М. «Телефон» (1918): «Куда бежать от жизни гулкой, / От этой каменной уйти? / Молчи, проклятая шкатулка! / На дне морском цветет: прости!» О том, что телефон в стихах и прозе авторов начала ХХ века, в частности, у О. М. в «ЕМ», «входит в ряд бытовых memento mori», см. в работе: Тименчик 1988: 156–160. См. также изображение телефона глазами больного в рассказе Сергея Семенова «Тиф» (1922): «Приторно-аптечный запах обдает в приемной. Комната почему-то большая, как пустыня, и вся зыблется туманом. Но налево как-то особенно четко и нудно приклеился к стене полированный ящик телефона и под ним мерцает блестящая полукруглая чашка звонка. Провода черной ниткой ползут по стене вверх и теряются в бесконечности пустыни». № 100. Аптечные телефоны делаются из самого лучшего скарлатинового Ср. с многочисленными вариантами зачина комментируемого фрагмента в черновиках к повести: «…“скарлатинового” дерева: в них плохо слышно и трубка расхлябана» (2: 568); «Какие [страшные] хрупкие телефоны в аптеках! Они делаются из скарлатинового дерева. Скарлатиновое дерево растет в клистирной стране и пахнет чернилом. В скарлатиновой роще висят телефонные трубки и хранится под деревом книга “Весь Петербург”, эта библия каждой <аптеки>» (2: 568; о книге «Весь Петербург» см. комм. № 13); «Парнок [боялся] недолюбливал аптечны<е> телефон<ы>; они из <1 нрзб> скарлатинового дерева, в них плохо слышно и в трубке завелась(?) костоеда» (2: 569). Ключевые мотивы зачина и черновиков к нему заданы местом пребывания Парнока — аптекой. Поэтому красное дерево (и его заменители), из которого иногда делались телефонные коробки, у О. М. преображается в «скарлатиновое дерево». Ср. также с объяснением К. Ф. Тарановского: «“Аптечные телефоны делаются из самого лучшего скарлатинового дерева <из дерева зараженного (и заражающего) скарлатиной>” (“Египетская марка”). В дальнейшем тексте у Мандельштама скарлатиновая образность как бы материализуется в последующем тексте <…> Известно, что шелушение кожи происходит в последней, самой заразной стадии скарлатины и что болезнь захватывает горло, и голос хрипнет. “Скарлатиновое дерево”, совершенно естественно, растет в “клистирной роще”» (Тарановский: 76). Важнее, однако, то, что скарлатина иногда дает осложнение на уши и человек оказывается в полном звуковом вакууме (недаром у О. М. в черновике о телефонах дважды сказано: «в них плохо слышно»). Ср., например, в рассказе Аверченко «Одинокий» (1910–1911): «— Особенно вы не волнуйтесь, — благожелательно сказал гость. — Скарлатина не всегда кончается смертельным исходом. Иногда она просто отражается на ушном аппарате, кончается глухотой». Аптечные мотивы в комментируемом фрагменте в совокупности воплощают важную для «ЕМ» тему заразы как проклятия и «патента» на изгойство. Ср. со сходным приемом в «Четвертой прозе»: Исай Бенедиктович с первых же шагов повел себя так, как будто болезнь заразительна, прилипчива, вроде скарлатины, так что и его — Исая Бенедиктовича — могут, чего доброго, расстрелять. Хлопотал Исай Бенедиктович без всякого толку. Он как бы метался по докторам и умолял о скорейшей дезинфекции <…> Короче говоря, обращаясь к разным лицам и в разное время, Исай Бенедиктович как бы делал себе прививку от расстрела (3: 167–168).Ср. еще в ст-нии Пастернака «Любовь Фауста» (1919): «Все фонари, всех лавок скарлатина, / Всех кленов коленкор / С недавних пор / Одно окно стянули паутиной». Форма «чернилом» (вместо «чернилами») довольно часто употреблялась в произведениях предшественников и современников автора «ЕМ». Находим ее и в ст-нии Макса Бартеля «Петербург», переведенном О. М.: «Не чернилом водянистым / Я пишу а красной кровью», а также в ст-нии самого О. М. «Квартира тиха, как бумага…» (1933): «Чернила и крови смеситель». О запахе чернил и связанных с ним ассоциациях см., например, в «Феодалах» (1904) Короленко: «Пахло чернилами, носильным платьем и еще чем-то, составляющим специфическую принадлежность захолустных канцелярий, полицейских участков и духовных консисторий…», а также в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова (изображается ЗАГС): «Мужчина в суконном, на вате, пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил…» Самым дешевым сортам чернил был свойствен сильный едкий запах, похожий на уксусный. Необходимо еще отметить, что чернила, как и другие красители, изготавливались на некоторых фармацевтических фабриках, а в аптеках иногда продавались в качестве сопутствующих товаров. К ним также могли прилагаться письменные принадлежности и бумага — все необходимое для написания письма. Из черновиков к повести О. М. ясно, что о чернилах он первоначально собирался писать специальный фрагмент или серию фрагментов, которые, по-видимому, должны были связать комментируемый отрывок об аптеке (с как бы мимоходом упомянутым запахом «чернила») со следующим далее фрагментом «ЕМ», начинающимся в итоговом варианте со слов: «Перо рисует…» (см. фр. № 101 и комм. к нему). «Рисует», понятное дело, как раз «чернилом». Вот эти черновые фрагменты: [После завтрака господин Лидин внушительно пригласил Парнока пройти к себе в кабинет, — при этом он даже не покраснел — и] Траурный лапчатый госп<один> Лидин долго расспрашивал Парнока, какие чернила в городе считаются лучшими, не водянисты ли [они] красные и [нет ли в них вообще] не заметно ли и не ощущается ли в них недостатку [и т. д.] (2: 569–570);На отдельном листке записана, по-видимому, окончательная редакция последнего предложения: «— Когда вы еще были щенком, мол<одой> чел<овек>, и чит<али> Ш<иллера> и П<ушкина>, я уже знал секр<ет> лилов<ых> черн<ил> Лапид<усзона>» (2: 570). Встречающаяся здесь фамилия «Лидин», возможно, провоцирует читателя вспомнить об удачливом сопернике графа Нулина из одноименной поэмы Пушкина. Фирма Ицко Пинхосовича Лапидусзона занималась производством чернил, ваксы и канцелярского клея с 1872 г. Раскроем и мы «секрет лиловых чернил Лапидузсона»: берут 10 граммов метилфиолета (анилин, краска, растворимая в воде), обливают 30 граммами холодной воды, оставляют на 3–4 часа и прибавляют 950 граммов горячей воды, 10 граммов сахарного песку и 2 грамма щавелевой кислоты (в кристаллах). В течение 2–3 дней смесь взбалтывают и затем процеживают. Финал комментируемого фрагмента представляет собой своеобразное заклинание-увещевание, обращенное к читателю: «Не говорите… Помните…» О «развоплощенном голосе» говорящего по телефону и обыгрывании этой развоплощенности в произведениях современников О. М. и его самого см.: Тименчик 1988. В заключительных строках комментируемого фрагмента по законам, скорее, поэтической, чем прозаической речи, повторяется и чуть варьируется фр. № 99 (см. комм. к нему). № 101. Перо рисует усатую греческую красавицу и чей-то Согласно первоначальному замыслу О. М., рисовать на листе бумаги должен был главный герой повести: «Присев к столу, Парнок машинально нарисовал пером усатую красавицу гречанку. Так на полях черновика возникают арабески и живут своей собственной прелестной и коварной жизнью» (2: 570). Стол, по-видимому, должен был находиться в аптеке, откуда Парнок звонил в милицию; во всяком случае, рисовал Парнок провизора: Чтобы сделать провизора, понадобилась целая банка густых лиловых чернил Лапидусзона (2: 570);«Провизор м. помощник аптекаря; || ученая степень, дающая право содержать аптеку (аптекарь, высшая степень по этой части)» («Словарь В. И. Даля»). О «Леноре», «Эгмонте» и Мариинском театре см. в комм. № 209. «Третьих скрипок» в оркестре не существует. В других черновых вариантах зачина к комментируемому фрагменту рисунки на полях описывались как рисунки повествователя: «[Не имея дара к связному рассказу] Я без толку мараю бумагу, рукопись потом перечеркиваю и оставляю одни рисунки на полях» (2: 570); «Скрипичные человечки, которых рисуют чернилами на полях рассеянные авторы, эти разбрызгнутые пером капли воображения — в сущности, одни [подбородки да приятельские носы] фармазонские подбородки да гофманские носы — мне гораздо милее круглолицых характеров.
В итоге О. М. предпочел вариант, предоставляющий читателю самому догадываться и выбирать — кто в комментируемом эпизоде водит пером по бумаге — повествователь или герой (если считать, что изображение Парнока может быть автопортретом). Начало комментируемого фрагмента («Перо рисует…») содержит отсылку к следующим строкам из первой главы «Евгения Онегина»: «Перо, забывшись, не рисует, / Близ неоконченных стихов, / Ни женских ножек, ни голов». Эти строки выбрал эпиграфом к своей статье «Рисунки Пушкина» знакомец автора «ЕМ» Абрам Эфрос. Его статья была напечатана в той же, 2-й, книге журнала «Русский современник» за 1924 г., что и ст-ние О. М. «1 января 1924». Предложенный в статье Эфроса анализ соотношения пушкинских ст-ний с сопровождающими их рисунками без натяжек может быть приложен к поэтике повести О. М.: «…пушкинский рисунок возникал не как самоцель, но в результате бокового хода той же мысли и того же душевного состояния, которые создавали пушкинский стих <…> Пушкинский рисунок — дитя ассоциации, иногда близкой <…>, иногда очень далекой, с почти разорванной связью» (Эфрос: 198–199). Сходным образом, основная фабула «ЕМ» соотносится с авторскими отступлениями от нее. Так или иначе, но весь комментируемый фрагмент представляет собой автометаописание и обоснование художественного метода, примененного О. М. при создании «ЕМ»: на первый план в повести выдвигается неважное, случайное, находящееся как бы на полях литературы и жизни. Ср. с типологически сходной метафорой в рассказе Набокова «Весна в Фиальте» (1938), где о главной героине говорится так: «Вновь и вновь она впопыхах появлялась на полях моей жизни, совершенно не влияя на основной текст». При желании, можно отыскать рисунки Пушкина, соответствующие некоторым описаниям О. М. Как известно, автор «Евгения Онегина» несколько раз рисовал красавицу гречанку Калипсо Полихрони, а пушкинский профильный портрет мужчины в очках воспроизведен в цитируемой выше статье Эфроса: Эфрос: 211. О рисунках на полях стихов см. также, например, в «Старинных октавах» (1895–1899) Мережковского: «Но иногда, романтик добродушный, / Про все забыв, каких-то ведьм и фей, / И рыцарей, и замок их воздушный / Чертил пером в тиши воскресных дней…» и у Надсона в ст-нии «Закралась в угол мой тайком…» (1885): «Закралась в угол мой тайком, / Мои бумаги раскидала, / Тут росчерк сделала пером, / Там чей-то профиль набросала». Тема Греции начата во фр. № 45 и 46 (во втором из этих фрагментов упоминается «молодая гречанка»). Эпитет «усатая», как нам еще предстоит убедиться, будет сшивать друг с другом разнородные фрагменты повести. «Арабески, род орнамента в архитектуре и живописи, причудливое сочетание листьев, цветов, животных и орудий, иногда людей и вымышленных фигур, процветали у арабов (мавров)» («Словарь Брокгауза и Ефрона»). Ср. в статье Эфроса «Рисунки Пушкина»: «Росчерки, хвосты, концы заканчиваются арабеском (финалы ряда автографов); арабеск завивается птицей» (Эфрос: 205). В контексте повести важно, что «Арабесками» назвал книгу своих сочинений, вышедших в 1835 г. Гоголь, а Андрей Белый, в подражание ему, также озаглавил сборник статей 1911 г. «Скрипичные человечки» неизбежно напоминают читателю о рассказе Конан Дойля «Пляшущие человечки»; по-видимому, подразумевается визуальное сходство рисуемых схематичных человечков со скрипичными ключами и нотами в нотной строке (сходство было еще более определенным в черновике, где «скрипичные человечки» превращались в «разбрызгнутые пером капли»). Не обыгрываются ли в словосочетании О. М. «скрипичные человечки» идиома «скрип пера»? О белой бумаге (у О. М. «молоко бумаги») ср. в статье Эфроса: в пушкинских рисунках «есть ощущение прекрасного расщепа пера, излучающего тончайшую цветную влагу на белое поле листа» (Эфрос: 205). Не забудем еще, что молоко часто использовалось в качестве симпатических чернил. В «ВП-17» фигурирует лишь один Бабель — «Федор Васильевич, дамский портной» (ВП-17: 36). Очевидно, в комментируемом отрывке содержится намек не на него, а на хорошего знакомого О. М., писателя Исаака Бабеля. Ср. «рисунок» из «ЕМ» с автохарактеристикой из рассказа Бабеля «Мой первый гусь» (1920): «…очки на носу…» Ср. также у О. М.: «…арабески» «живут своей самостоятельной, прелестной и коварной жизнью» и в зачине рассказа Бабеля «Пан Аполек»: «Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино». Ср. еще у Бабеля о петербургских аптеках в рассказе «Ходя»: «Неумолимая ночь. Разящий ветер. Пальцы мертвеца перебирают обледенелые кишки Петербурга. Багровые аптеки стынут на углах. Фармацевт уронил набок расчесанную головку. Мороз взял аптеку за фиолетовое сердце, и сердце аптеки издохло. Никого на Невском. Чернильные пузыри лопаются в небе». О Парноке как «египетской марке» см. комм. к заглавию повести (№ 1). № 102. Артур Яковлевич Гофман — чиновник министерства иностранных дел Ср. в черновике к повести: Артур Яковлевич Гофман любил свой департамент за [высокие потол<ки>] вышину потолков и янтарный паркет и столбики. [У него было два любимых словечка:] Он злоупотреблял словечками «муссировать» и «вентилировать». Коридоры [этого] здания — с [монастырским эдаким] доминиканским холодком — закруглялись из уваженья к земному телу. Греки [ходили редко и губок с собой не приносили] ходят редко и напрасно. В служебное время [сбивал] чиновники сбивают гоголь-моголь. [Парноку покровительствовал и обещал в будущем сделать его…] (2: 569–570).См. также комм. к заглавию «ЕМ» (№ 1) и фр. № 45 (в комм. № 45 см. и о греческом посольстве в Петрограде, располагавшемся в здании гостиницы «Европейская», занимающей всю левую сторону Михайловской улицы — если смотреть от Невского проспекта в сторону площади Искусств). Микрофрагмент: «Греки [ходили редко и губок с собой не приносили», по-видимому, содержит ироническую отсылку к знаменитому призыву из ст-ния Пастернака «Весна» (1914): «Поэзия! Греческой губкой в присосках / Будь ты…» О ровеснике О. М., поэте и сотруднике иностранного отдела «Ленинградской правды» Артуре-Эрнсте-Карле Яковлевиче (Гавриловиче) Гофмане подробнее см.: Тименчик: 433–434. В черновике перо рисовало не просто «валторны Мариинского театра», а друид «с <1 нрзб> валторной Мариинской оперы» (2: 570). «Друиды, жрецы древних кельтов в Галлии» («Словарь Брокгауза и Ефрона»). Марш друидов исполняется в опере Винченцо Беллини «Норма», шедшей в Мариинском театре с 1837 г. Ср. в поэме Огарева «Юмор»: «Туда, туда! Среди друид / Там голос Нормы мне звучит. / Но прежде чем увижу юг, / Услышу музыку Беллини, / Заеду в Питер я, мой друг, / Где не бывал еще доныне». Валторна (от нем. Waldhorn — «лесной рог») — медный духовой инструмент басово-тенорового регистра. Произошла от охотничьего сигнального рога, в оркестр вошла в середине XVII века. Валторна звучит в операх «Волшебная флейта» Моцарта, «Евгений Онегин» Чайковского и др. Параллель к финалу комментируемого фрагмента («И пустое место для остальных») находим в позднейшей «Четвертой прозе» О. М.: «…для меня в бублике ценна дырка. А как же с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка останется. Настоящий труд — это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы» (3: 178). № 103. Эрмитажные воробьи щебетали о барбизонском солнце, Воробей для О. М. — одна из эмблем города. Ср. в его ст-ниях «Париж» (1923): «Здесь толпы детские — событий попрошайки, / Парижских воробьев испуганные стайки…», «Нет, не спрятаться мне от великой муры…» (1931) (о Москве): «А она то сжимается, как воробей, / То растет, как воздушный пирог» и «Еще далеко мне до патриарха…» (1931), в непосредственной близости к строкам о музеях западного искусства: «Я к воробьям пойду и к репортерам». См. также в черновике к «ЕМ» о Парноке: «Это путешествие было самой патетической минутой его жизни[, но вышло так, что оно прибавило только новый бульвар к Тверскому и Никитскому, с аккуратностью, будто он вернулся, объехав кольцо А, к воробьям Тверского бульвара]» (2: 564). Во фр. № 165 появится разговаривающий воробей. Барбизонская школа живописцев 1830–1860 гг. (Этьен Теодор Руссо, Жюль Дюпре, Нарис Диаз, Камиль Коро, Шарль-Франсуа Добиньи и другие) предшествовала импрессионистам. Ее представители работали в деревне Барбизон под Парижем. Одни из первых они начали писать пейзажи, а не только этюды к ним на открытом воздухе (на пленэре). В России пропагандистом барбизонской школы был барон Н. Н. Врангель, так писавший о ней в статье «Французские картины в Кушелевской галерее», опубликованной в № 6 «Аполлона» за 1911 г. (в предыдущем номере журнала появилась очередная подборка стихов О. М.): «До Курбэ, Коро, Добиньи, Дюпре и Руссо во французском искусстве не было пейзажа <…> Грустно подумать, что в эту эпоху, когда целая страна открыла новый мир, в России даже и не подозревали об этом» (С. 13–14). См. у него же о «барбизонском солнце»: «В ласковой солнечности голубого полуденного жара купались, и плыли, и нежились как чайки белые, как дым, легкие, облака» (С. 14). Необходимо указать, что большинство картин барбизонцев (сейчас их там множество) было передано в Эрмитаж в 1919–1923 гг., то есть, в период между временем действия и временем написания «ЕМ». Фламандцы (в первую очередь, Рубенс, Ван-Дейк, Иорданс и Снейдерс) составляли гордость коллекции Эрмитажа задолго до революции 1917 г. Их жизнеутверждающие работы никак не назовешь «мрачными». Может быть, подразумевается здание Нового Эрмитажа (арх. А. И. Теребенев), на втором этаже которого размещались залы испанской, итальянской и фламандской школ? О мрачном фламандском колорите см. также в ранней статье О. М. «Франсуа Виллон» (1910?): «Ни обескровленный феодализм, ни новоявленная буржуазия, с ее тяготением к фламандской тяжести и важности, не могли дать исхода огромной динамической способности, каким-то чудом накопленной и сосредоточенной в парижском клерке» (1: 174). Предположение А. Г. Меца о том, что в этом и следующих комментируемых фрагментах «подразумевается живопись импрессионистов» (Мец: 663), не кажется нам убедительным: О. М., по-видимому, важно было обратить внимание на забытую, «заслоненную» импрессионистами и постимпрессионистами, школу французских художников. По замечанию А. А. Морозова, в комментируемом эпизоде французская живопись — «прибежище для автора-героя от зловеще мрачной атмосферы Петербурга» (Морозов: 274). О шпинате с гренками см. в черновике к повести: «На завтрак был подан шпинат с гренками, старинное детское блюдо, символ невинности и канареечной радости» (2: 569). № 104. А я не получу приглашенья на барбизонский завтрак, Зачин «А я…» уже встречался во фр. № 78 («А я бы раздал девушкам…»). В черновике к «ЕМ» с фонариком играл не повествователь, а группа детей, и как раз во время «барбизонского завтрака»: «А барбизонский завтрак продолжался. Дети, разобрав шестигранный цветной фонарик, наводили на деревья, беседки и газоны то раздражительную красную тьму, то синюю жвачку полдня какой-то чужой планеты, то лиловую кардинальскую ночь» (2: 571). Этим и мотивируется появление союза «хоть» в комментируемом отрывке. Получается что-то вроде: хоть я в детстве и играл во время такого завтрака с фонариком, но снова приглашения на него не получу (поскольку детство кончилось). Ср. также с идентичным набором цветов в «Петербурге» Андрея Белого: «У! Как было сыро, как мозгло, как ночь синела и лиловела, переходя болезненно в ярко-красную сыпь фонарей, как из этой синей лиловости под круги фонарей выбегал Аполлон Аполлонович и опять убегал из-под красного круга в лиловость!» Весь комментируемый фрагмент, как свидетельствовала Н. Мандельштам во «Второй книге», действительно восходит к эпизоду из детства О. М.: «Мандельштам ребенком разломал фонарик и поразился, как выглядит мир сквозь цветные красное, синее, желтое — стеклышки». Ср. в ст-нии самого О. М. «— Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый…» (1931) о жизни: «Где-то на даче потом в лесном переплете шагреневом / Вдруг разгорелась она почему-то пожаром сиреневым… / <…> / Дальше, сквозь стекла цветные, сощурясь, мучительно вижу я: / Небо как палица грозное, земля словно плешина рыжая…» (на это ст-ние также указывает Н. Мандельштам). Обратим особое внимание на то, что в комментируемом отрывке речь идет не о карманном фонаре, но об одном из тех цветных фонариков, которыми изначально украшались улицы российских городов в дни коронации очередного императора (или о подобном таким фонарикам). Ср., например, в мемуарах М. Добужинского «Петербург моего детства»: Когда была коронация Александра III (1883 г.), тетя Катя повезла меня в своем экипаже вместе со всеми ее детьми поздно вечером смотреть на иллюминацию Петербурга, и я вдоволь нагляделся на царские вензеля и короны и разные надписи, вроде «Боже, царя храни», из весело переливающихся, то делавшихся голубыми, то ярко разгоравшихся газовых язычков, на гирлянды разноцветных фонариков, развешанных вдоль улиц.Процитируем также фрагмент книги Д. Засосова и В. Пызина «Из жизни Петербурга 1890-х — 1910-х годов»: В праздники улицы преображались. В «царские» дни, на Рождество и Пасху на улицах, увешанных флагами, бывала иллюминация. На богатых домах и правительственных зданиях горели газовые вензеля из букв членов царствующей фамилии с коронами. (Со временем эти газовые горелки на вензелях были тоже заменены электрическими лампочками.) На столбах газовых фонарей устанавливались звезды из трубок, которые тоже светились. На второстепенных улицах от одного столба к другому протягивалась проволока, на ней развешивались шестигранные фонарики с разноцветными стеклами.А вот отрывок из книги Г. Чулкова «Императоры: Психологические портреты» (1928): «Если официальные и полуофициальные биографы преувеличивают ликование “народа” при появлении цесаревича, все же в какой-то мере ликования были, и мальчику нравилось, что кричат “ура”, махают шапками, и ему приятно было сознавать, что в честь папы и его, наследника, зажигают плошки и разноцветные фонарики». Ср. еще в позднейшем «Юношеском романе» В. Катаева: «…я окунулся в теплую мглу южной пасхальной ночи, озаренную огнями плошек, свечей, бумажных и стеклянных трехцветных корoнационных фонариков». Ср. также в открытом письме О. М. советским писателям 1930 г.: «Дело принимает вид фонарика с разноцветными стеклами» (4: 127). Словосочетание «барбизонский завтрак» объединяет барбизонцев с импрессионистами, провоцируя читателя вспомнить о знаменитой картине Эдуарда Мане «Завтрак на траве» и о живописном полотне Клода Моне с таким же названием. Дополним этот список «Завтраком гребцов» Огюста Ренуара и «Воскресным полднем» Жоржа Сера. Барбизонцы считаются предтечами импрессионистов, поэтому неудивительно, что своеобразный «монтаж» из работ барбизонцев и импрессионистов допускался и до О. М., например, в «Уляляевщине» (1924) Сельвинского: «Иное дело Сезанн, барбизонцы: / Они — композиция, план, протокол, / У них на каркасе солнце». Ср. также с суждением современной исследовательницы: …надо учесть, что ни «барбизонский завтрак», ни «барбизонское солнце», о которых щебечут эрмитажные воробьи в «Египетской марке» не имеют отношения к собственно барбизонской школе живописи. Такого завтрака с газетами, салфетками и зонтиками, какой описан в этом пассаже, даже приблизительно не могло быть у барбизонцев, в романтическом сознании которых природа была антиподом города; в их картинах встречаются животные и поселяне, даже божества и нимфы, но не зонты и «фельетоны» вместе с ощущением проходящей где-то близко железной дороги. Задачу вписать современного человека в пейзаж и трактовать их совокупно как лишенное смысловой иерархии целостное красочное построение, поставили себе импрессионисты (Кантор: 66). «Трахома, глубокое воспаление соединит<ельной> оболочки глаз, преимущ<ественно> век и переходной складки; характериз<уется> развитием круглых желтоватых зерен (трахоматозные фолликулы) и отделением заразительного гноя» («Словарь Брокгауза и Ефрона»). Ср. в ст-нии Михаила Зенкевича «По Кавказу» (1912): «Вон девочка… С нежной истомой / Пугливо глядит, как коза. / Попорчены красной трахомой / Ее грозовые глаза». «Лиловой» и «кардинальской» ночь названа у О. М. по ассоциации с цветом рясы. Ср., например, в «Соборе Парижской Богоматери» Гюго: «Среди вновь появлявшихся на возвышении духовных особ каждый школяр намечал себе жертву — черную, серую, белую или лиловую рясу». Ср. также в «Шуме времени» самого О. М.: «Помню торжество: елейный батюшка в фиолетовой рясе…» (2: 366). Отметим, что цвет кардинальской рясы не мог быть лиловым, так как кардиналы носили красное облачение (в лиловые рясы обряжались епископы). Ср. также в «Анне Карениной» Толстого: «Священник беспрестанно высылал то дьячка, то дьякона узнать, не приехал ли жених, и сам, в лиловой рясе и шитом поясе, чаще и чаще выходил к боковым дверям, ожидая жениха». 
Э. Мане. Завтрак на траве 
К. Моне. Завтрак на траве 
О. Ренуар. Завтрак гребцов 
Ж. Сера. Полдень № 105. Мать заправляла салат желтками и сахаром.
Опять непонятно: речь идет о матери Парнока, матери повествователя или же о матери с условной барбизонской или импрессионистической картины? По-видимому, мать «заправляла салат» сметанным соусом. Вот его рецепт: 250 г сметаны, 2 желтка, 30 г муки, 30 г готовой горчицы, 10 г сахара, 20 г уксуса, соль по вкусу. Ср. также с изображением готовящей женщины в ст-нии О. М. «Мне жалко, что теперь зима…» (1920): «И ты пытаешься желток / Взбивать рассерженною ложкой, / Он побелел, он изнемог — / И все-таки еще немножко». «Горящая соль» в комментируемом фрагменте — отсылает к ст-нию Фета «С бородою седою верховный я жрец…», одну строку из которого («И нетленною солью горящих речей») О. М. следующим образом перефразировал в заметке «Борис Пастернак» (1923): «…уходя, Фет сказал: “И горящею солью нетленных речей”. Эта горящая соль каких-то речей, этот посвист, щелканье, шелестение, сверкание, плеск, полнота звука, полнота жизни, половодье образа и чувства с неслыханной силой воспрянули в поэзии Пастернака» (2: 301). О трельяже ср. комм. к фр. № 11. № 106. Барбизонское воскресенье шло, обмахиваясь газетами и салфетками, В Петрограде и его окрестностях в июне 1917 г. стояла очень сильная жара. Подробнее об этом см. в комм. № 68. К процитированным там заметкам из столичных газет здесь прибавим еще одно свидетельство: «Вследствие стоящей за последнее время жары и полного отсутствия дождей, многие столичные каналы обмелели и высохли наполовину. Между прочим, совершенно высохла часть Адмиралтейского канала» (Биржевые ведомости. Вечерний выпуск. 1917. 12 июня. С. 3). «Булавочно маленькой актрисой» Н. Мандельштам во «Второй книге» называет подругу Ахматовой, танцовщицу Ольгу Глебову-Судейкину. Вместе с тем, упоминание о «булавочно маленьких актрисах», вероятно, должно было привнести в комментируемый фрагмент французский колорит. Ср., в первую очередь, в романе друга импрессионистов Эмиля Золя «Нана»: «В тот же вечер они отправились в “Буфф” посмотреть дебютировавшую в крошечной роли в десять строк знакомую Фонтану маленькую актрису». Еще не дописанный роман Золя об актрисе Нана начал печататься в газете «Вольтер» в виде отдельных фельетонов. Золя был недоволен газетным вариантом и писал Флоберу: «Я произвел над напечатанными фельетонами дьявольскую работу, изгонял фразы, которые мне не нравились, а они мне все не нравились <…> Роман ужасен в фельетонах, я сейчас сам его не узнаю». См. также в романе Золя «Западня»: «Мамаша Купо, служившая некогда в прислугах у одной маленькой актрисы из театра Батиньоль, первая вспомнила о ломбарде». Ср. также в первой главе «Евгения Онегина»: «Но панталоны, фрак, жилет, / Всех этих слов на русском нет». Реалии, описанные в комментируемом фрагменте, в изобилии встречаются на полотнах импрессионистов. Так, салфетки и зонты изображены на картине Жоржа Сера «Воскресный полдень», мужчина в жилете — на переднем плане картины Клода Моне «Завтрак на траве», обнаженные круглые женские плечи — на одноименной картине Эдуарда Мане. См. также в ст-нии О. М. «В Петербурге мы сойдемся снова…» (1920): «Все поют блаженных жен крутые плечи» (отмечено в: Леонтьева: 92). Напомним также, что в романе Золя «Творчество» описывается картина художника Клода (= Эдуарда Мане) «Пленэр» (= «Завтрак на траве»). № 107. Открытые вагонетки железной дороги плохо повиновались Иллюстрациями к зачину комментируемого фрагмента могли бы послужить картины французских художников, изображающие движение паровоза с прицепленными к нему вагонами вдоль зеленых полей, в частности, «Поезд в сельской местности» Клода Моне, «Поезд Бедфорд-Парк» Камиля Писсаро, «Поезд и шаланды» Пьера Боннара, «Пейзаж в Овере после дождя» Винсента Ван Гога. Также отметим, что паровоз, дым от него и вагонетки изображены на знаменитой гравюре «Первый пассажирский поезд на царскосельской железной дороге». Вагонеткой называют вагон небольшого размера, сверху открытый и предназначенный для перевозки тяжестей по рельсам, преимущественно ручной тягой. Не совсем понятно, какие могут быть у «открытых вагонеток» «занавеск»и и вообще — зачем О. М. понадобилось употреблять это слово (разве что в память о Золя — авторе многочисленных романов о шахтерах? Или по звуковому сходству с фамилией «Ван-Гог»?). Высокая труба паровоза напомнила О. М. цилиндр, а паровозные поршни — косточки от обглоданных цыплячьих ножек. Ромашковое поле уподобляется в комментируемом фрагменте большой карте для лото. Шапокляк — складная шляпа-цилиндр на пружинах; муслин — хлопчатобумажная или шелковая ткань полотняного переплетения. В комментируемом фрагменте шапокляки и муслин метонимически замещают пассажиров, густо набившихся в открытые вагонетки. Муслин упоминается в черновиках «Путешествия в Армению» О. М. в качестве характерной детали на картинах Моне: «В комнате Клода Монэ [и Ренуара] воздух речной <…> Не заглядывайся, а то вскочат на ладонях янтарные волдыри, как у изнеженного гребца, который ведет против теченья лодку, полную смеха и муслина.]» (3: 385). Финальное предложение комментируемого фрагмента в черновиках к «ЕМ» варьируется так: «Вот проехала бочка, [обросшая светлой щетиной ломких] опрыскивая дорогу светлыми шпагами [воды] [водяной гребли] воды [и садовник сидел на ней князем]. Испытание светом и на свет продолжалось» (2: 571). Ср., например, в книге А. Гуревича «Москва в начале 20 века»: «Летом, при ветре, по улицам носились тучи пыли. Поливка улиц и переулков (мостовых) производились только в центре из железных бочек, установленных на одноосных одноконных тележках. Это собственно, даже нельзя было назвать поливкой, а скорее обрызгиванием, т. к. редкие капли воды, падая без напора на мостовую, скатывались в шарики с пылью или быстро впитывались в грунт между булыжниками». Не содержит ли предложение «Испытание светом и на свет продолжалось» напоминания о том, что краски в тюбиках, используемые барбизонцами для работы на пленэре, на их картинах в итоге потускнели и почти обесцветились? Также в комментируемом фрагменте обыгрывается созвучие слов «СТРУн» и «СТРУй». 
К. Моне. Поезд в сельской местности 
К. Писсаро. Поезд Бедфорд-Парк 
П. Боннар. Поезд и шаланды 
В. Ван-Гог. Пейзаж в Овере после дождя 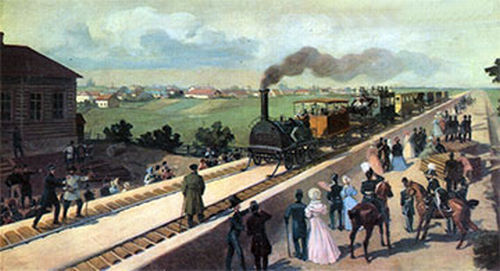
Первый пассажирский поезд на Царскосельской железной дороге. № 108. Уже весь воздух казался огромным вокзалом Для внимательного читателя здесь содержится внятное указание-намек на то, что во фр. № 103–109 подразумеваются не только картины барбизонцев и импрессионистов, но и детские впечатления повествователя, связанные с Павловском. Ср. в ст-нии О. М. «Концерт на вокзале» (1921): «И запах роз в гниющих парниках», а также в «Шуме времени»: «…особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневевших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз и навстречу ему тяжелые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы» (2: 348). Ср., впрочем, в «Путешествии в Армению» о натюрморте Поля Сезанна: «Срезанные, должно быть, утром розы, плотные и укатанные, особенно молодые чайные. Ни дать ни взять — катышки желтоватого сливочного мороженого» (3: 198). См. также в мемуарах Анны Ахматовой: Запахи Павловского вокзала. Обречена помнить их всю жизнь, как слепоглухонемая. Первый — дым от допотопного паровозика, кот<орый> меня привез — Тярлево, парк, Salon de musique (кот<орый> называли «соленый мужик»), второй — натертый паркет, потом что-то пахнуло из парикмахерской, третий — земляника в вокзальном магазине (павловская!), четвертый — резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок, кот<орые> продаются в цветочном киоске (налево), потом сигары и жирная пища из ресторана. Царское — всегда будни, потому что дома, Павловск — всегда праздник, потому что надо куда-то ехать, потому что далеко (?) от дома и Розовый павильон (Pavillion de roses).Ср., кроме того, в черновиках к «ЕМ» с еще более очевидной отсылкой к павловским реалиям, чем в итоговом варианте: «Дети, разобрав шестигранный цветной фонарик, наводили на деревья, беседки и газоны…» Получив «павловский» ключ к «барбизонскому» эпизоду «ЕМ», читатель может обратиться к нему снова и заметить, что, например, трельяжи (см. фр. № 105), наряду с беседками и павильонами, украшают Павловский парк. № 109. А черные блестящие муравьи, как плотоядные актеры Главка «ЕМ», начатая сценой самосуда, закономерно завершается упоминанием о китайском «палаче». Ср. с привлечением «китайских» мотивов в «Четвертой прозе»: «Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни для пленников» (3: 169). В комментируемом фрагменте речь идет о традиционном китайском театре, искусстве, зародившемся в народных формах песенно-танцевального творчества; сплав музыки, танца, пантомимы, декламации и акробатики, уходящий корнями в далекое прошлое и подчиняющийся строгому канону стилизованной символики жестов и интонаций. Актеры, игравшие в китайском театре коварных злодеев, облачались в черные одежды, поэтому, в том числе, с ними и сравниваются у О. М. «черные блестящие муравьи». О муравьях в «ЕМ» ср. также: Isenberg: 109. Палач — излюбленный персонаж китайского театра. См., например, описание финала представления китайской труппы, сделанное русским зрителем: «Вошел палач и показал публике острый сверкающий нож <…> Кровь брызнула фонтаном через всю сцену в партер. Раздался одобрительный возглас публики “хао!” Палач выматывал кишки, как нитки. Снова раздалось оглушительное “хао!” восторженно настроенной публики» (Левитский М. Китайский театр / В трущобах Маньчжурии и наших восточных окраин. Одесса, 1910. С. 120). Отметим, что палач является действующим лицом «китайской» пьесы Гоцци «Турандот». См. также комм. к фр. № 4, в котором впервые в «ЕМ» возникают «китайские» мотивы. Еще ср. в детском ст-нии О. М. «Муравьи» (1924): «Как носильщик настоящий / С сундуком семьи своей, / Самый черный и блестящий, / Самый сильный — муравей!» и в набросках к заметке О. М. «Литературный стиль Дарвина» (1932): «Описанная Палласом азиатская козявка костюмирована под китайский придворный театр, под крепостной балет» (3: 393). «Фижмы, юбки на китов<ом> усе, употр<еблявшиеся> в XVII в.» («Словарь Брокгауза и Ефрона»). № 110. Ломтик лимона — это билет в Сицилию к жирным розам, Лимоны, прежде всего, сиракузские — это своеобразный символ и эмблема Сицилии. Ср., например, в ст-нии З. Гиппиус «Вся» (1917): «Рощи лимонные и березовые, / Месяца тихий круг. / Зори Сицилии, зори розовые, — / Пенье таежных вьюг…», в ст-нии Гумилева «Отъезжающему»: «И Рим увидишь, и Сицилию, / Места любезные Виргилию, / В благоухающей, лимонной / Трущобе сложишь стих влюбленный», а также пьесу Л. Пиранделло «Лимоны Сицилии» (“Lumíe di Sicilia”, 1911). В черновиках к «ЕМ» «ломтиком лимона», а потом «зернышком лимона» и «лимонной косточкой» объявлялся главный герой. Там же прямо и недвусмысленно расшифровывалась метафора «налетающей ночи»: «Он — [ломтик лимона] [зернышко лимона] [лимонное зернышко] лимонная косточка, брошенная в расщелину петербургского гранита, и выпьет его с черным турецким кофием [надвигающаяся историческая] налетающая ночь» (2: 571; о зловещих «черных муравьях» см. во фр. № 109; о соотношении судьбы Парнока с судьбой Петербурга см. в комм. к фр. № 2). Отчасти сходную метафору см. также в позднейшем московском ст-нии О. М. «Нет, не спрятаться мне от великой муры…» (1931): «Я — трамвайная вишенка страшной поры / И не знаю, зачем я живу»; и в варианте ст-ния «За гремучую доблесть грядущих веков…» (1931): «Я вишневая косточка детской игры». Ср. и в «ЕМ» далее: «Нотная страница — это, во-первых, диспозиция боя парусных флотилий; во-вторых — это план, по которому тонет ночь, организованная в косточки слив» (см. комм. к фр. № 113). В черновиках к «ЕМ» содержится внятный намек и на причины уподобления главного героя именно лимонной косточке: «Предки Парнока — испанские евреи ходили в остроконечных желтых колпаках — знак позорного отличия для обитателей гетто… Не от них ли он унаследовал пристрастие ко всему лимонному и желтому?» (2: 563). «Косточка» в комментируемом фрагменте, возможно, перекликается с «дробиночкой» и «крупиночкой» в V и VI главках. Ко всему прочему, в русской литературе XIX и начала XX вв. «косточка» (омонимичная лимонной) в качестве частого словоупотребления расшифровывалась как «он такой-то по сути», «плоть от плоти». Поэтому неоднократно встречаются: русская косточка, дворянская косточка, военная косточка, московская косточка и т. п. Ср., например, у Достоевского в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «Гюстав горд и презрительно благороден, как и всегда, только куражу больше, потому что военная косточка»; у Тургенева в «Стихотворениях в прозе»: «Да это ты, Карп, Сидор, Семен, ярославский, рязанский мужичок, соотчич мой, русская косточка!»; у Алексея Потехина в «Выгодном предприятии»: «А-а, дворянин Ковырнев! Ангел мой, дворянская косточка!» и т. д. О танцующих полотерах ср., например, в «Записках старого петербуржца» Льва Успенского: «И когда приходили полотеры, производя разруху во всех комнатах, отодвигая мебель, заливая пол мастикой, меня нельзя было вытащить оттуда, где они плясали свой полотерный, скользкий танец». Ср. также детское ст-ние О. М. «Полотеры» (1925): «Полотер руками машет, / Будто он вприсядку пляшет. / Говорит, что он пришел / Натереть мастикой пол. / Будет шаркать, будет прыгать, / Лить мастику, мебель двигать. / И всегда плясать должны / Полотеры-шаркуны». Причудливые жесты рук танцующих древних египтян О. М. мог видеть на посуде, рельефах и других сохранившихся от той эпохи предметах, а также на фотографиях и репродукциях, воспроизводивших эти предметы (см. также комм. № 1 — к заглавию повести) и фр. № 8 (о «пляшущих артельщиках»). О работающем лифте ср. в письме О. М. к Вячеславу Иванову от 13 августа 1909 г.: «У меня странный вкус: я люблю электрические блики на поверхности Лемана, почтительных лакеев, бесшумный полет лифта <…> Я люблю буржуазный, европейский комфорт и привязан к нему не только физически, но и сантиментально» (4: 15). Констатация «лифт не работает» характеризует разрушающийся петроградский быт пореволюционной эпохи в противовес идеально налаженному быту сицилийских отелей. Ср., например, с эпизодом из «Взвихренной Руси» Ремизова, относящимся как раз ко времени после февральской революции: «“Его еще нет, — перебивает Добронравов, — со Степуном застрял в лифте на Таврической!” “Да теперь, — говорю, — нигде и лифты не ходят”». О Сицилии как символе комфорта см., например, в «Размышлениях у парадного подъезда» Некрасова: «Безмятежной аркадской идиллии / Закатятся преклонные дни: / Под пленительным небом Сицилии, / В благовонной древесной тени, / Созерцая, как солнце пурпурное / Погружается в море лазурное, / Полосами его золотя, /— Убаюканный ласковым пением / Средиземной волны, — как дитя / Ты уснешь, окружен попечением / Дорогой и любимой семьи / (Ждущей смерти твоей с нетерпением); / Привезут к нам останки твои, / Чтоб почтить похоронною тризною, / И сойдешь ты в могилу… герой, / Втихомолку проклятый отчизною, / Возвеличенный громкой хвалой!..» Меньшевиками-оборонцами называли тех представителей этого умеренного крыла российской социал-демократической партии, которые в период Первой мировой войны провозгласили лозунг «обороны Отечества», а после Февраля 1917 г. — необходимость «усиления оборонной работы на местах» (см., например: Собрание меньшевиков-оборонцев / Единство. Ежедневная рабочая газета. Пг., 1917. 9 мая. С. 4). 25 октября 1917 г. петроградский комитет меньшевиков-оборонцев обратился к столичным рабочим и солдатам с воззванием: «Знайте: голод задавит Петроград, германская армия растопчет нашу свободу, черносотенные разбойничьи погромы захлестнут Россию, если все мы, сознательные рабочие, солдаты, граждане, не сплотимся вокруг Временного Правительства и не отстоим его». Согласно комментарию А. А. Морозова, хождение меньшевиков-оборонцев по домам обывателей с агитацией — «бытовая деталь зимы 1917 г.» (Морозов: 274). Ср. также в заметке фельетониста Мюргита «Домовая охрана»: «В то время, как городская милиция создалась словно сама собою, всем нам на радость и удивление, с домовой охраной напротив того хлопот и забот не обобраться» (Лукоморье. 1917. № 9–11. 2 апреля. С. 26). Мотив страха снова возникнет в финальной, VIII главке «ЕМ». Ср. также у О. М. и в восьмой части «Былого и дум» Герцена: «Знать, что никто вас не ждет, никто к вам не взойдет, что вы можете делать что хотите, умереть, пожалуй… и никто не помешает, никому нет дела… разом страшно и хорошо». Ср. еще в ст-нии О. М. «Колют ресницы. В груди прикипела слеза…» (1931): «Душно — и все-таки до смерти хочется жить»; и у Вагинова в «Поэме квадратов»: «Да, я поэт трагической забавы, / А все же жизнь смертельно хороша». О мотиве кофе в «ЕМ» см. в первую очередь фр. № 74 и комм. к нему.  |