Медовый месяц Золушки
Сказочная повесть
| Про тех двоих, без которых событий, известных всем на свете, не случилось бы... |
Про нее и напоминать-то людям нелепо. Ее, кажется, знают даже дикари. В пять лет или в одиннадцать все и каждый роняли слезу над ее обидами, над неоцененными сокровищами ее души... Весь христианский мир любит ее за доброту, за скромность, за незлопамятный и неунывающий нрав! И каждый радовался лично, когда эти прелести отмыли от сажи и подали, наконец, в достойном обрамлении. И когда сам Принц пришел от нее в любовный восторг! Вообще все кончилось здорово – свадьбой, счастьем, весельем, полной победой справедливости... Так?
Но ведь кто-то помог такой торжествующей развязке? Кто-то же поспособствовал?.. Многие даже помнят – кто именно.
* * *
Они были далеко от Пухоперонии – Фея и мальчик, ее паж, ее ученик. Но им упорно думалось о той стране, о событиях, недавно приключившихся там. Думали они про это по-разному: Госпожа – с теплой улыбкой, с надеждой на все хорошее. А Жан-Поль (так звали мальчика) – с горечью, которая глоталась все хуже, все трудней... Это уже напоминало горловую боль при ангине...
| Кое-что о редкой профессии |
Видела его Госпожа, что с ним творится. Она вообще видела и знала про людей больше, чем им хотелось бы. Оттого и начался у них с Жан-Полем тот неприятный утренний разговор за завтраком. |
– Ничего я такого не думаю. Вам виднее, – буркнул он, не поднимая глаз.
– Ну-ну-ну... со мной же глупо лукавить. Ты оказался ревнивцем, вот что я скажу тебе! – заключила она с ласковой насмешкой. Судите сами, что в таких насмешках важнее: то, что - ласковые? Или то, что они все-таки – насмешки?
После такого завтрака ничуть не странно, что ему желательно было побыть одному. Жан-Поль отпросился погулять по столице Мухляндии – так называлась страна, в которую занесло их нелегкое ремесло чародеев... Тут мы вздохнем заодно: до чего же легковесно и как туманно представляют себе люди эту профессию! Но пусть, пусть заблуждаются, не всегда стоит выводить людей из их приятных заблуждений...
Разумеется, профессию "волшебники" нельзя было указывать в гостиничной книге регистрации постояльцев: это поняли бы как неудачную шутку. Могло и похуже быть: если бы поверили и стали одолевать их толпы нуждающихся в чуде. Нуждающихся жадно и срочно!.. Кидались бы в ноги, хватали бы за края одежды, лезли бы в двери и окна, демонстрируя увечья свои... Пришлось бы разглядывать и оценивать действительные, но также и фальшивые следы каких-то всепожирающих бедствий! Решать, кто более непереносимо страдает (от такой задачи, знаете ли, и волшебник свихнется!)... Послушать такого жалобщика – ну просто погибнет он без их искусства, завтра же! А посули ему помощь, волшебное вмешательство в его жизнь - человек тут же расслабится, сложит руки – и таких будут тысячи! Нет-нет, невозможны для этих двоих правдивые сведения о себе, откровенность придавила бы их! И когда их вписывали в ту книгу, Госпожа сказала: "Музыканты. Театральные музыканты из Фармазонии...". Никто не проверял, так и записали.
Гостиница попалась им далеко не лучшая: раньше они останавливались в номерах попросторнее и побогаче. Но оба они не придавали значения таким пустякам: главное – чтобы постояльцев и шума от них было поменьше, чтобы не мешали думать и мечтать, склоняясь над старинными волшебными книгами... И еще – чтоб кровати были без клопов.
Надо заметить – никакое чародейство не помогало избавиться от этих гнусных насекомых, – хоть смейся, хоть плачь! Целиком превратить какой-нибудь грязный постоялый двор в первоклассную гостиницу Фее было так же нетрудно, как стакан сельтерской выпить... Но, во-первых, у нее должны были появиться высшие причины для таких действий. Высшие! – это не все хотят и могут понять... А во-вторых, если на этом самом месте прежде водились клопы, то и теперь они вползали, как будто говоря: пардон, но мы – сама природа, господа, над ней ваши чары не властны... Впрочем, что это мы разговорились о такой мерзопакости? По счастью, не было их в той мухляндской гостинице, ни один пока не укусил, – и слава Богу, и давайте о более интересных вещах.
Итак, Пухоперония осталась позади. Страна все-таки симпатичная. По крайней мере, такой вспоминала ее Фея. И королевский двор ее отличался от других более приятными нравами...
А уж какие только королевства, княжества и герцогства не старались изо всех сил угодить и понравиться Фее после того, как узнавали о волшебном ее могуществе! Просто из кожи вон лезли, чтобы произвести наилучшее впечатление, чтоб выхлопотать, выпросить у нее ту или иную милость!
Фее казалось, что при пухоперонском дворе меньше негодяев, чем всюду. И что Принц, которому они с Учеником отдали Золушку, - такого дара достоин. Ровно ничего худого нельзя было сказать о Принце, не только сказать, но и подумать мельком. Принц так искренно, так нерасчетливо был влюблен! Вообще случай Золушки и Принца был как пример из учебника к Великому Закону, согласно которому от любви хорошеет человек, изнутри и снаружи...
А сама Золушка? Если б даже и были у Феи какие-то сомнения насчет Принца, – попробовала бы она помешать этой свадьбе! Видела Фея, видел и чувствовал даже 13-летний Жан-Поль: преступление – не дать этим двоим соединиться! Вместо девушки, которую они осчастливили, вновь была бы оскорбленная, горькая сирота – как в те дни, когда над ней издевалась мачеха. Нет, не так: от мачехи и от сводных сестер несправедливость, брань и щипки с вывертом были чем- то уже привычным; а новая обида от Судьбы, поманившей ее сперва любовью и счастьем, а потом обманувшей, была бы гораздо злее, могла нестерпимой стать!.. Рядом с этой возможной ее болью – много ли стоила детская обида Жан-Поля? Это ведь выветрится из его ребячьего сердца! Через неделю, ну через две он вовсе забудет про все пухоперонские страсти. Ни пуха не останется от них, ни пера!.. – думала Фея.
| Когда ты и скор черезчур, и опоздал безнадежно |
Но в том мальчишеском сердце шел, продолжался глухой спор с Госпожой, с ее решением. Осуществилось оно – и теперь все сожаления, все споры были чем-то вроде дыма, уходящего из трубы к холодным небесам... Только этот дым все гуще клубился в нем и уже загораживал солнце, и со временем не становился слабее и светлее... |
– Почему? – спрашивала она. – Что ты надеешься успеть за эти недели? – тут Жан-Поль слышал опять знакомую ласковую насмешку. Он прекращал трудный разговор. Стеснялся. Все нужные слова приходили к нему на час или на день позже, чем надо. "Волшебник", называется! Только вчера в карете из него вырвалось вдруг, как шипучка с пузырьками газа:
– Они же не знают толком друг друга! Золушка не успела ведь даже понять, в каком новом мире очутилась! Шутка ли? От плиты, от корыта, от огородной мотыги – сразу на светлые скользкие паркеты, в широченную пуховую кровать красного дерева с альковом и балдахином, в зал для танцев... Причем, с кем танцевать? С министрами и послами, с полковниками королевской гвардии! Хотя нет – полковник не посмеет пригласить принцессу, не по чину ему... разве что генерал отважится! А она? Да ей легче будет сквозь землю провалиться! – наседал мальчик.
Госпожа Фея насмешливо его успокоила:
– Не наговаривай на нее. Чепуха все. Прелестно станцует она и с генералом, и с послом. А робеющего полковника даже и сама пригласит! Так ведь и было – ты видел сам! – на том первом балу, когда еще и речи о свадьбе не заходило... Тоже мне трудности: скользкие паркеты! Да она с коромыслом и двумя полными ведрами в самый гололед ходила! И в горку, и под гору! ...Или – тоже еще проблема! – чересчур широкая кровать... Такая широкая, что Принц потеряет ее там, что ли? Не переживай: отыщет!
Не следовало ей так шутить. По высшим причинам не следовало! Юмор, если он касался той девушки, должен быть очень -очень бережным – или вовсе его не надо!
Жан-Поль шел по чужому городу и не замечал прохожих- мухляндцев, даже когда они толкали его плечами, задевали сумками. Он был рассеян, как самый допотопный старичок-профессор! Вернувшись в гостиницу, абсолютно ничего не смог бы он рассказать Госпоже об архитектуре этой столицы, о том, что за публика в здешних тавернах, кого больше – степенных людей или ветрогонов и пьяниц; какие товары и за сколько предлагают торговцы, как называются деньги в Мухляндии, что за спектакли обещают афиши местного театра и цирка-шапито... Ничего этого мальчик не замечал, не видел в упор.
"Не воротишь ничего, – думал он, – Как зубами ни скрипи, - сколько ни вчитывайся в наши книги волшебные..."
Он опоздал бесповоротно. Как вон тот мухляндский парнишка, который что-то кричал на бегу франтоватой парочке в экипаже. Их лошади, ужаленные кнутом, рванули с места так прытко, что пареньку и не догнать и не докричаться уже...
Нет, мог бы, конечно, Ученик Феи сделать так, чтоб эти кони застыли, как вкопанные! Чтоб они вообще превратились, допустим, в черепах... Чтобы тот ровесник Жан-Поля, который так отчаянно опаздывал что-то объяснить тем невнимательным франтам, стал бы восседать на их месте, одетый, как аристократ! А эти, отмахнувшиеся от него, – они бы униженно просили секундочки его драгоценного внимания! Большой кайф, знаете ли, бывает от таких перевертышей!
Все это он мог бы: его с восьми лет учили чародейству. Правда, специальной их палочки сейчас не было с ним – она оставалась в гостинице, возле кресла Госпожи Феи, в скромном футляре, какие у флейтистов бывают... Принадлежал инструмент, ясное дело, Госпоже. Паж пользовался им только по Ее повелению. Нарушить это условие – означало потерять Ее милость, Ее доверие, а хуже этого нельзя было представить себе ничего на свете...
Ну а если бы все-таки набрался он такой дерзости невероятной? Взял бы палочку без спроса, да и был таков? Махнул бы, скажем, в совсем другую страну?
Он остановился у афишной тумбы с рекламой какого-то балагана: голова закружилась немного. В его-то годы – удивительно, не правда ли? Но сейчас наука о человеке успокаивает нас на этот счет: головокружение от любви в таком юном возрасте – нормально, оно вовсе не означает, что организм болен – скорее, наоборот...
Когда уже в сумерках вернулся Жан-Поль в гостиницу, усталый и голодный, Госпожа Фея сказала, снимая очки и протирая их замшей:
– А, это ты... Обедал? Нет? Я тоже заработалась и на часы не взглянула... Слушай, дружок, – у меня поручение для тебя. Первое в твоей жизни, которое ты исполнишь без опеки моей, без подсказок - совершенно то есть самостоятельно! Самой-то мне недосуг, а надо бы кое-что проверить в Пухоперонии... Там ведь идет к концу первый месяц, люди зовут его медовым... Так вот – на самом ли деле сладко все? Так ли благополучно вышло, как нам хотелось бы?
Придется, Жан-Поль, тебе возвратиться туда... ненадолго. И одному! Кстати, палочка мне в эти дни не понадобится... возьмешь ее и, надеюсь, будешь пользоваться ею ответственно... Да? Повинуясь не своим прихотям, а лишь высшим причинам...
Мальчик поспешил плюхнуться на диван, потому что почувствовал: близится второй приступ головокружения... Какая же она прелесть, его Госпожа! Не женщина, а чудо!
Глава вторая, на месяц возвращающая нас назад.
Она только что встала – новоиспеченная принцесса. И осматривалась тут, во дворце, которого ни разу еще не видела таким безлюдным и при ясном свете дня, когда тысячи свечей – ни к чему... Ей и себя-то было странно видеть в зеркале... (а зеркал было тут множество, и больших, отражающих в полный рост). Батюшки, кто это красуется тут в длинном золотистом пеньюаре, с пылающими щеками, с глазами, расширенными от недоверия к своей судьбе?
Вокруг были так называемый "зимний сад" и часть королевской библиотеки с большими фамильными портретами в тяжелых рамах. Вход по главной дворцовой лестнице как бы охраняла статуя воинственного короля Ипполита. Уже объяснили ей: это прадедушка ее мужа, принца Лариэля... стало быть, и ей родня... Золушка присела перед этим прадедом в быстром вежливом поклоне. На всякий случай.
| Королева-свекровь | Почему-то трудно было подойти к самому большому и отдельно висящему портрету покойницы королевы – дамы лет пятидесяти, не старше, с властным лицом, в котором, конечно же, много было особой породы. |
Здесь поклон Золушки был уже длительным, смиренным, как у монахини. Не мериться же ей гордостью с хозяйкой всего-всего здесь – и дворца и города, и страны!
Едва слышно Золушка произнесла (а чего-то и выговорить не смогла – только подумала):
– Ваше Величество! Вы думаете, я пользуюсь... бесстыже пользуюсь тем, что Вы... изволили умереть и не можете ни во что вмешаться? Не так это, ей-Богу, не так! Я еще до свадьбы хотела Вам объяснить... Не думайте, что все это – я сама... Нет, я и сейчас-то от смущения погибаю... не знаю, как сесть, как встать... Для чего нарисовали Вас такой суровой, Ваше Величество? Вот муж Ваш – он совсем не так на меня смотрит, у него ко мне есть симпатия... Правда-правда, я чувствую! А иначе – я разве посмела бы?
Сложно объясняться с теми, кто не ответит тебе, сколько ни старайся задобрить их... Золушка отдохнула чуть-чуть и приступила снова:
– Вы,наверное, хотите спросить, люблю ли я Вашего сына? Но если я скажу: да! да! – Вы можете посмеяться: еще бы, настоящего принца полюбить всякая норовит... от одного слова "принц" девчачьи головы кружатся... А тем более – когда королевский бал, и такой паркет, и столько света, и такая музыка... А жизнь – это не бал, правда же? Это я знаю... я даже слишком хорошо это знаю... Нет. Ничего нельзя доказать. И не обязаны вы мне верить. И не надо.
Так она решила, заметив, что черты королевы не смягчаются от ее слов. Чепуха, впрочем: ну как они могли смягчиться? На портрете? Неужто и вправду надеялась в глубине души, что ей ответит картина? Нет. Не дитя же она – замужем как-никак... Безмолвие вокруг начинало навевать скуку, а скуки Золушка терпеть не могла. Нет, не так: за всю ее прежнюю жизнь ей просто недосуг было узнать, что это такое – скука. Поэтому совсем на другую тему свернули ее мысли:
– а бронза-то на раме позеленела... давно не чистили, видно. Мелом ее надраить бы...
Потом она решила заглянуть за портрет – и возмутилась от того, что там увидела:
– Батюшки, за Вами же паутины – страх сколько! Кто ж запустил Вас так? Еще немного – летучие мыши заведутся за спинами таких особ! На месте Вашего Величества я бы даже обиделась... – и она стала озираться вокруг, соображая: где у них тут метлы да тряпки? Специальный чуланчик должен быть.... Ничего, потом я еще разок выкупаюсь... тут воду экономить не надо...
Тут на лице Золушки отразилось блаженство, которое она испытала всего четверть часа назад в огромной ванной комнате из розового мрамора: вода лилась там с восхитительной щедростью! А эти мохнатые широкие полотенца четырех фасонов и расцветок? А нежная губка? А всякие шампуни и кремы и тюбики, про которые надо еще разузнать: что там такое, зачем они? А душ, из которого так упруго, так бодряще хлещет теплая вода, и попрохладней, и любая! Да что перечислять дивные эти мелочи, если там еще и бассейн целый?! Кто назвал бы ее "Золушкой", если б такое было у нее в отчем доме?
Но она одернула себя: мечтать некогда, надо найти тот чуланчик, надо торопиться, пока нет никого... Ну как не избавить матушку-королеву от неприличной лохматой паутины за спиной у Ее Величества? А зато потом можно – нет, даже нужно будет еще разок побывать в том раю!
| Люси- Не-Поддамся-Не-Проси |
...У портрета покойницы-свекрови она появилась уже почти неузнаваемая: в рабочем халатике, с метелкой, тряпками и ведром. Только начала уборку – и тут появилась девушка, одетая точь-в-точь как она сейчас, и, судя по ее речам, очень боевая. |
– Здравствуйте, – отвечала Золушка. – Ну... в общем, да. Новенькая. (И правда: кто скажет, что она здесь "старенькая"?)
– А зовут как?
Золушка чуть помедлила и выговорила свое имя.
– Золушка? – переспросила та служанка и хмыкнула. – Это что же – прозвище на собачий манер или крестили так?
– Кто ж так знакомится? – упрекнула Золушка, нечаянно уронив тряпку. – "На собачий манер"... Зачем начинать с обидного? Ты сама-то кто?
– Я – Люси-Не-Поддамся-Не-Проси! Это я так ухажерам говорю нахальным. Чтоб сразу видели разницу между мной и королем: он - Алкид Второй Уступчивый, а я – наоборот. Нет, для тебя-то я, конечно, просто Люси.
Все это надо было переварить сперва. Раньше Золушке не приходилось слышать, как именовался их король полностью. Почему он Уступчивый, интересно? Кому уступчивый, в чем? А эта Люси - веселая, видно, дерзкая...Золушка умела радоваться чужим шуткам, а удачно шутить самой – как-то не выходило. Поэтому себя она не считала веселой. Что касается дерзости, лихости – это так пригождается иногда... а ей совсем не дано было этого.
– Слушай, Люси, а где у вас тут лесенка? – спросила она. - Никак без нее не дотянуться... а тут заросли целые.
Слова эти мало понравились веселой ее "сотруднице":
– Ишь ты... Выходит, ты выговор нам делаешь – всем, кто до тебя тут служил? Заросли... Велели тебе туда лазить?
– Нет, я сама.
– Ясненько. Надеешься, что камер-фрейлина сразу тебя отметит? Старшей поставит над нами? Выкуси! Ей такого усердия излишнего не надо, она сама давно мышей не ловит, да тут и спросу на это нет. Просто ей нравится с нас стружку снимать, но это – от неудачной личной жизни... Пошли-ка лучше в кухню, подруга, – вдруг позвала Люси. – Получишь паштету гусиного. У нас, конечно, гусями не удивишь никого, да здесь их откармливают по-особенному, по- королевски: вкус получается – гляди, вилку не заглотни!
Потом оказалось: не только из-за паштета Люси тащила ее на кухню. Ей не терпелось послушать рассказы тех, кто прислуживал вчера на свадьбе! Больше всего Люси надеялась на какую-то Фрижетту: та была вчера подавальщицей лимонада и пунша – значит, невесту могла разглядеть подробно...
Тут Золушка поняла, что ей никак на эту кухню нельзя. И заартачилась:
– Нет,нет. Иди одна. Что мне эти чужие рассказы... - Она толком не поняла, как и почему вырвалось у нее концовка этой фразы: "я и сама ее видела..."
– Принцессу?! – сразу вцепилась Люси. – Ври больше! Это где же?
Пришлось, страдая от своего вранья, сочинить – что дело было в ванной... Что спину она терла принцессе! Полотенца ей подавала... Понятно, что лгунья получалась из нашей героини не больно-то опытная и красноречивая. Но Люси будто клещами вытягивала из нее эти подробности!
Люси озадачилась: личный уход за принцессой был работой Терезы, камеристки. Или эта новенькая Золушка врет... Или она - птица более высокого полета: вторая камеристка?! Что взяли вторую - очень правдоподобно: ну может ли одна управиться со всеми хлопотами вокруг молодой супруги принца? Наверняка ведь мильон капризов будет... Люси рассуждала про это вслух и выходило у нее, что с этой Золушкой надо обращаться более почтительно, во всяком случае – до тех пор, пока все не проверено: вторая камеристка – должность серьезная...
– Тогда не обижайтесь на меня... не разобрала я с наскоку, - извинялась Люси. (А у Золушки еще пуще горели щеки и уши от этих ее слов, от этого перехода на "вы"). – Тогда вообще все хорошее со стола, что осталось, – вам и так полагается... – говорила Люси. – Вы лесенку спрашивали? Тут есть, я сейчас...
И за полминуты притащила стремянку.
И опять стала рассуждать вслух – о том, что концы с концами не очень сходятся: влажной уборкой, к примеру, отродясь не занималась ни одна из камеристок... Они и одеты по-другому совсем... Ну какая принцесса позволит дотрагиваться до ее спинки прислуге, одетой по-рабочему, вот как они с Золушкой? Об этом Люси спросила, что называется, в лоб.
И Золушка, чувствуя, что пропадает, сказала: тогда она, дескать, в белом была и с фартучком...
– Ну предположим, – не унималась Люси. – Ну и какая же она из себя?
– Кто?
– Да принцесса же! Ножка-то – и впрямь до того махонькая, что ее туфля никому в мире не налезет? И талия, как у осы? – продолжала Люси любопытничать. – А кожа? Белизны, говорят алебастровой...
Скромная Золушка возразила, что Люси, наверное, каких-то сказочников наслушалась. А вот ей ничего такого не показалось: наружность миленькая, но обыкновенная...
– Да? А разговоров-то, разговоров... В чем же ее сила тогда? - глядя, как работает Золушка, Люси в сомнениях чесала свой нос. А потом не выдержала, к более простым темам вернулась:
– Пойдем, гусиной печенки отведаешь – она-то уж точно необыкновенная! Ну что тебе за дело до паутины? Кто заглядывает туда?
– Вот я заглянула, – сказала Золушка.– Понимаешь, мне часто покойная мама снится... ее не стало, когда я совсем крохой была. Иногда она приходит, чтобы сказать: "Нельзя, дочка, думать, что и так сойдет! Так ничего не сходит..."
"Может, это и мудрость, но только не для служанок", – подумала Люси и снова цепко всмотрелась в эту новенькую. И решила почти окончательно: нет, все-таки не тянет она на камеристку... Надо заставить ее сознаться, что наврала, пыль в глаза пустила...
| Ее собственный принц |
А между тем к ним шел из ванной сам принц Лариэль. У него была влажная шевелюра, на нем был коротенький купальный халат, который открывал загорелые сильные ноги. В руках у Лариэля был резиновый эспандер, с которым он упражнялся, кровь разгонял по утрам. |
– Мы? Нет, Ваше Высочество, не проходила она тут... Доброго утречка вам! – произнесла Люси, розовея от удовольствия: не так часто удается переброситься парой слов с принцем! Даже если метешь или протираешь что-нибудь в двух шагах от него.
– Утречко, может, и доброе... только началось оно странно, - рассеянно отвечал принц, оглядываясь.
Про Золушку, которая стояла как-то боком и даже не поздоровалась, Люси мельком подумала: ну и воспитание! И шепотом у нее спросила:
– Куда принцесса после ванной-то пошла? Если ты с ней была, ты и отвечай!
– Да-да...– кивнула новенькая и вдруг брякнула: – Ваше Высочество, вы не поможете мне? Портрет надо снять ненадолго... а он – тяжеленный...
У Люси дух перехватило от такой дерзости:
– Свихнулась, деревня? Ваше Высочество, она новенькая, не извольте на нее внимания обращать... Где-то в глуши жила... не все понимает... Надо камер-фрейлину, да? Чтоб разобралась и с ней, и с картиной... Я позову?
Но принц не слушал – он, как зачарованный, смотрел на Золушку.
– Я сам разберусь... не надо никого, – сказал он медленно. - Ступай, ты свободна.
– Как прикажете, – отвечала Люси с поклоном. И пошла, оглядываясь, а на уме и на языке у нее вертелось про Золушку: "Вот малахольная..."
Когда они убедились, что Люси их не слышит, они громко рассмеялись, конечно... Золушка продолжала стоять на лестнице и оттуда напомнила с лучистой улыбкой:
– Так как же, Ваше Высочество? Я говорю – снять надо вашу матушку. Крюк, на котором держится Ее Величество, книзу повело... И стенка тут осыпается, долго все равно не провисит...
– Ну, артистка! – снова расхохотался принц.– Не заговори ты со мной, я и бровью не повел бы: ну служанка и служанка... Слезай же! Вот явится в самом деле камер-фрейлина и устроит тебе выволочку!
– А вы заступитесь? – спросила она. Конечно, по всем правилам ей уже полагалось обращаться к мужу на "ты", но она еще не умела, сам язык ее не умел... – Нет, я серьезно: не сегодня-завтра ваша матушка может упасть...
– Ну и что? Оставь. Вобьют новый крюк и вернут ее на место. Без тебя. Гораздо хуже, радость моя, когда падает наша репутация... Вот сейчас, например, она же падает...
– Почему? – Золушка села на верхней лестничной ступеньке.
– Да потому, что моя принцесса не знакома с такой работой! Веника никогда не держала в руках! Поняла?
– Нет...
– Это я, я один видел тебя в затрапезе, в саже, Бог знает в чем, когда достали тебя из-за печки и заставили мерить туфельку! Кстати, уже ходит легенда, будто туфелька была хрустальная... Пускай хоть фарфоровая, не жалко. Лишь бы не вспоминались те домашние твои занятия и прозвище, которого надо стесняться, - Золушка... В метрической книге записей о рождении у тебя же роскошное имя – Анна-Вероника, так?
– Да, это мама покойная придумала...
– И чудесно! Мне нравится... И никаких больше кличек, никаких золушек, договорились? Теперь ты – из графской семьи...
Золушка чуть с лестницы не свалилась: как – из графской?! Известно же, из каких она... папа ее – лесничий... Вся округа же смеяться будет!
Но Лариэль сказал, что их округа – подавится, что никто и пикнуть не посмеет. Отыскался, сказал он, желтый пергамент, где на чистом пухоперонском языке говорится: король Ипполит, прадедушка Лариэля, дарует прадеду Золушки графское достоинство – за храбрость при защите отечества. Забавно, конечно, что такая базарная дама, как мачеха Золушки, тоже станет графиней, зато она будет меньше шипеть, – заметил Лариэль. И добавил, что этот Указ будет лекарством и сестричкам ее, заболевшим от зависти, – Агнессе и Колетте.
– А главное, – подвел итог Лариэль, – твое происхождение будет подано так, чтобы не дразнить гусей... не дать им ущипнуть тебя! - и тут он потребовал, чтобы она сняла с себя эту мешковину – так он ее рабочий халатик обозвал.
Про гусей Золушка не поняла, но принц, у которого лицо вдруг стало гневным и твердым, сказал:
– Поймешь еще... И с индюками нашими познакомишься... и с павлинами...
Золушка спустилась к нему, положила обе руки ему на плечи и спросила с нежностью и с тревогой:
– Лариэль! Вы не жестокий ведь, нет?
Дело в том, что некоторые выражения его лица она видела в первый раз. Если по-честному, то они еще продолжали знакомиться друг с другом. Принц сказал: нет, вовсе он не считает себя жестоким. Но он хочет оградить их счастье... а кто знает, какие свойства для этого понадобятся? Золушка тоже не знала, какие. Только у нее было твердое мнение, что от их счастья не должно быть обиды никому. Тогда принц улыбнулся, но как-то невесело, и напомнил ей про тех девушек, которые рвались примерить ту самую туфельку, но она им не подошла...
Слушать это было трудно: по ходу мужниного рассказа она несколько раз ойкнула и один раз вскрикнула.
| Ненависть 18 963-х |
Таких девушек в стране оказалось пугающе много: восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят три... Каждую из них обидело до полусмерти, что туфелька, решающая судьбу, подошла не ей! Кто-то сказал уже фразу, которую принялись повторять все, кому не лень: Пухоперония становится Королевством Заплаканных Девушек! |
– Да ты собственных сестер вспомни! – сказал Лариэль. – Они же были как истуканы, как мумии – и в Божьем храме, и потом за свадебным столом... С жуткими вымученными улыбками. Зубки – и те казались искусственными!
Золушка припомнила: он был прав. Но если родные так... ну, пусть сводные, но все-таки с детства же вместе...Чего же тогда ждать от чужих? Десять минут назад она затруднилась бы назвать даже одного-единственного своего врага. У нее враги? Откуда? За что? И вдруг их оказалось почти 19 000; не наваждение ли, не кошмар ли, привидившийся во сне в душную предгрозовую ночь?!
Получается, нельзя ей было всего этого... не смела она давать волю этой своей внезапной любви... Мало ли чего хочется, о чем мечтается? Надо знать свое место! Да, да! Место, отведенное тебе по рождению... воспитанию... по толщине твоего (или родительского) кошелька... А то из кухарок – в принцессы! Не наглость ли? Вот и шепчут, шипят, уличают 18 963 голоса: наглая... дерзкая... беспардонная самозванка... возомнившая о себе невесть что!
И как им всем доказать теперь, что эти слова – решительно не про нее? Что никакого отношения к ней они иметь не могут!
...Она очнулась от рук и голоса Лариэля: руки встряхивали ее за плечи, а голос пробивался к ее сознанию, где что-то, похоже, прервалось – она не помнила, на одну ли минуту, на двадцать ли.... Принц взывал к ней:
– Солнышко, что с тобой? Я зря тебе это сказал, да?.. В общем- то, считай, я пошутил... вернее, сильно преувеличил... Анна-Вероника! Ты слышишь меня? – он прижал ее к себе крепко- крепко.
Она дрожала вся. Этим именем звала ее, по рассказам отца, только покойная мама... и было это так недолго, так давно... Ничего она не отвечала встревоженному юноше, который тоже ведь назывался странно, смешно и немного пугающе: муж... супруг...
– Ну что, что такое стряслось? – допытывался Лариэль.– Ты себе этих девиц представила? Успокойся, маленькая: здесь им до тебя не дотянуться! Папе ты нравишься очень. А уж мне-то... Как думаешь, принц и король в состоянии уберечь свое сокровище? У них для этого и тайная полиция, и гвардия королевская, и жандармы...
– Никак не охватить мне всего, что случилось за эти дни, - наконец промолвила Золушка. – Лариэль, я сейчас спрошу очень важную вещь... ответьте мне серьезно. Может, я пустила вам пыль в глаза? С самого начала? Нарядом своим... и шестеркой прекрасных лошадей, что тогда примчали меня к вам на бал... экипажем необычайным...
Смеясь, принц перебил ее:
– Не в рессоры я влюбился, не в коней. И не в кучера! А представь себе – в гостью, которую они привезли мне. В улыбку ее... в голос. В ее смущение. В ее изящество, нисколько не заученное, а природное, свое. В то, как она сияла, когда трудилась над мороженым...
Золушка сказала, что любая из тех 18 963-х сияла бы не хуже: во-первых, от его повышенного внимания, во-вторых, от вкусноты: это было ананасное мороженое с фисташками.
Принц вспоминал с восхищением, что на таинственной гостье было платье из особенной, не известной ему материи, оно мерцало и переливалось так, что никто потом вспомнить не мог, какого именно цвета оно было. Все одно говорили: одета была – волшебно...
На этих его словах Золушка отчего-то вздохнула: ей и самой известно было, что объяснение – где-то здесь...
– Лариэль, – сказала она после минуты молчания. – А еще мне показалось,что про тех обиженных девушек вы говорили отчасти с удовольствием... Приятно вам, что они страдают из-за вас... черное носят... уксус пьют?
Лариэль сдвинул брови, порозовел и стал отрицать: что за вздор, ничуть не приятно... одни проблемы от этого!
В этот миг послышались шаги, и Лариэль легко узнал, чьи они..
– Послушай-ка, сюда отец идет... Увидит тебя в этом – не поймет же!– зашептал он.– Играй теперь в служанку и дальше... а как иначе-то? Вон там, на лестнице... Только спиной, спиной!
| Король-свекр и нога из Фармазонии |
Она все поняла и принялась за уборку на лестнице, стараясь не звякнуть ведром и не оглядываться. Собственной персоной появился здесь Алкид Второй, ее свекор, Его Величество. Надо сказать, что лицом пухоперонский король был желтоват, а по глазам его читалась еще более грустная вещь, чем обычные стариковские хвори: |
Алкид Второй вошел с красивой продолговатой коробкой.
– Сынок! Ну наконец-то! Я ищу тебя! – тут он перехватил взгляд сына, обращенный на коробку, сразу же смутился и поставил ее за ближней пальмой в "зимнем саду".
Принц сказал, что папиного пробуждения он ждал сегодня только к обеду... На это король изволил заметить, что, хотя голова у него и звенит после вчерашнего, но встал он, как всегда, и уже работает. Лариэль хмыкнул недоверчиво. Он знал, конечно, что быть королем – это работа, и трудная, но, кроме того, он знал еще и папеньку...
– Подписывал что-нибудь? – спросил принц без особого интереса. – К примеру, Указ о том, чтобы на радостях выпустили из тюрем несколько тысяч жуликов?
– Я хотел, но свояченица сказала: люди скажут, что у нас общие радости – у короля и у жулья!
– Вечная тетя Гортензия, – покачал головой сын. – Ну хорошо, а тех молодцов ты наградил, по крайней мере? Отряды, что искали мою невесту? Примеряли потерянную туфельку почти на девятнадцать тысяч женских ног?
И тут отец еще больше пожелтел лицом. Объявил, что, как ни конфузно, а больше не из чего чеканить медали. Не только серебра нет в казне, но – совестно сказать – даже меди! Скоро вообще ленточками придется награждать за верность и доблесть. Ленточками и бантиками!
Принц перестал расспрашивать. В хмурой задумчивости он занялся своим эспандером, а заодно быстренько оглянулся на лестницу, где возилась "служаночка", не замеченная покамест отцом. Интересно, слышит она, в какой неприличной бедности находится государство? На свадьбе-то никак нельзя было понять, что финансы – тю-тю... Что подумает она, когда до нее дойдет? ...Неожиданно папа рассердился:
– Оставь в покое эту резину! Или ты делаешь гимнастику, или говоришь с отцом!
– С чего ты такой брюзга сегодня? – спросил Лариэль. – Вчера Анна-Вероника восхищалась твоей веселостью, которая очень тебя молодит... Гляди, не разочаруй!
– Восхищалась, говоришь? – заулыбался и посветлел король. - Нет, правда? Скажи своей жене, что это – взаимно! Я не про глазки- губки, не про ножки-ручки – это тебе виднее... Я доволен тем, что девочка добрая, скромная, не вертихвостка. И не акула. Сейчас акул среди них полно... Но у Анны-Вероники – другая, знаешь ли, крайность: проста чересчур, бесхитростна... А ты – ветрогон! А я - тоже не из твердокаменных королей... Кстати: нужно как-то бороться с тем, что меня прозвали "Уступчивым"... по-моему, это ужасно! Еще до королей– соседей дойдет... они тогда обнаглеют! Приказать, чтобы хватали всех подряд, кто обо мне так выразится? Но тогда и свояченицу нужно: она меня даже обозвала "интеллигентом"! Как думаешь, никто нас не слышит? – внезапно спросил король.
– Абсолютно, – отвечал Лариэль быстро и громче, чем надо. - Мы одни, ты же видишь...
– Не скажи, – папа, наоборот, понизил голос. – У карлика, у барона Прогнусси, – везде уши... в туалете даже... по крайней мере, все так говорят. Так вот: я сегодня в холодном поту проснулся от этих мыслей: что же у нас выходит в сумме? До чего мы доведем королевство – уступчивый "интеллигент", ветрогон и кроткая, простодушная девочка? Мы же его профукаем!
– Полно, отец, ну что за самоедство? – Лариэлю не нравилось, что такое могла слышать молодая его жена. – Моя ветренность – она, считай, в прошлом. Не мальчик уже. Я готов включиться в дела, помогать тебе...
– Правда? – обрадовался король. – Я верю, сынок...Я хочу верить! Начнем прямо сейчас. – Тут он вернулся к своей красивой коробке, достал ее из-за пальмы, распаковал... – и принц глазам своим не поверил, до того странный предмет был вынут оттуда. Более, чем странный! Алкид Второй держал в руках белый, довольно изящный гипсовый слепок женской правой ноги.
– Что это? – спросил Лариэль.
– Это посылочка от Балтасара, короля Фармазонии. И, строго говоря, не мне посылочка, а тебе, сын...
Принц взял в руки эту ногу и разглядывал ее мрачновато, сосредоточенно:
– Нога... Кому нога? Чья нога?
– Это его дочери нога. Точный слепок с нижней правой конечности фармазонской принцессы Юлианы. Нас просят примерить на нее ту самую туфельку – только и всего.
– Какие примерки, отец?! Я женат уже!
– Вот этой детали там еще не знают. Расстояние как-никак... а телеграфа еще нет... То есть у Фармазонии-то есть, у них много чего есть, а у нас... Послов иностранных мы не звали, если ты заметил. Так что они не в курсе...
– Ну так теперь надо ответить, что с ногой они запоздали, - подвел итог Лариэль.
– Ты так считаешь? – всматривался в него папа. – Да. Нет, не так резко по форме, конечно, а как можно вежливее и дружелюбнее, но все-таки в этом смысле и ответим...
Если в эти минуты вспомнить забытую на лестнице Золушку, – мы увидим только напряженную ее спину и руку с влажной тряпкой, работающую в пять раз медленнее, чем эта рука привыкла... Ей было слышно каждое слово. И первым чувством ее было: нельзя ей слышать этих речей, это семейное дело короля и принца; а вдруг Лариэль отвечает не совсем то, что хотел бы – из-за нее, из-за того, что помнит про "служанку" на лестнице?
– Как трогательный папа, Балтасар еще и это прислал, – говорил Алкид Уступчивый, доставая свернутый холст из коробки. – Портрет... Не поленился, надо же... Любопытно тебе?
– Какой еще портрет? – опять нахмурился Лариэль.
– Поясной. Нет, пардон, – чуть выше коленок. А то, что ниже - у тебя в руках. Так что практически принцесса Юлиана тут вся.
– Вся или кусками – зачем она мне?! Отец? Ну посуди сам...
И тогда, с шаловливым румянцем, проступающим на желтоватом лице, король рассказал: принцесса Юлиана родилась, когда шел к концу очень важный для пухоперонцев визит Алкида Второго в Фармазонию. Был пир в честь такого события, оба короля захмелели прилично и сосватали своих деток: Лариэля, которому годика четыре было тогда, и Юлиану, которая только-только явилась на свет... Казалось бы, шутка, пустяки, издержки слишком щедрого застолья? Но теперь свояченица Гортензия и некоторые министры хором уверяют короля, что никакая это не шутка была... что Балтасар прекрасно помнит, как они с Алкидом ударили тогда по рукам...
– Ах, вы ударили? – воскликнул Лариэль, не очень-то одобрительно глядя на папу. – И тем не менее, – забери от меня эту ногу! Ног больше ни от кого не принимать!
Король торопливо говорил, что и не ждал от сына другого ответа... что Анна-Вероника – такая прелесть, какие еще могут быть конкурсы... Так он и заявит министрам и свояченице...
– Прямо, без выкрутасов и недомолвок! Нечего нам, понимаешь, рты разевать на чужое! Богат Балтасар? В передовые короли выбился? И на здоровье! А зато у нас в Пухоперонии полным-полно рыжиков в этом году! Кто-то докладывал об этом. Серьезно, - небывалый урожай этих рыжиков! И очень голосистые соловьи да малиновки! – так подбадривал себя Алкид Второй Уступчивый. А напоследок переспросил:
– Так я уношу это все? Или взглянешь на портрет все-таки?
Лариэль отвечал: незачем, он вообще плохо верит придворным живописцам, льстивые портреты у них... А самое главное – что лучше его принцессы не было, нет и не будет!
Король благодарил сына: дух его, который до этой беседы был хлипкий, весь в сомнениях, теперь значительно окреп, и уходит папа с гордостью за Лариэля: вчерашний ветрогон сегодня очень напоминает мужчину!
Почему-то здорово устали за эти полчаса и Лариэль и Золушка.
После ухода Его Величества они целую минуту молчали и усмехались про себя...только каждый – своим мыслям. А потом он позвал ее и опять попросил, чтобы оделась она к завтраку, как подобает принцессе: дико ему видеть холщевый этот маскарад на своей жене!
Затем он сам заговорил о том, про что хотел сказать с самого начала: ночь у них прошла совсем не так, как многие подумали и как должна была пройти. Принц смущался, просил прощения... Дело было вот в чем: все эти дни перед свадьбой, когда искали невесту по всей Пухоперонии, когда напяливали одну туфельку на тысячи ножек и ножищ, – принц не смыкал глаз: ведь руководил-то поисками он лично, и не из дворца, а прямо на местах... Очень умаялся. И в три часа ночи, когда их оставили в спальне одних, он уснул, едва коснувшись подушки. Вырубился. И спал до утра, будто забыв, что юная жена – рядом...
Золушка не понимала, в чем он кается так.
– Я ж видела эту твою усталость... и нечего объяснять. Все это пустяки, наговориться и днем можно...
– Наговориться ! – принц засмеялся и несколько раз восхищенно повторял это слово. – Нет, ты ангел у меня! Дай я обследую твои лопатки: нет ли там крылышек?
...А через несколько минут их вспугнула тревога, поднятая кем- то из слуг. Папа-король, оказывается, пошел отсюда к свояченице Гортензии (это по другой лестнице надо было подняться немного), по пути он с пристрастием разглядывал присланную ногу и - споткнулся... Ногу он сломал – и если бы ту, гипсовую, чужую! Нет, перелом – причем двойной, жутко болезненный – случился у самого короля, с его личной ногой, которая была вообще вне конкурса! Его Величество умудрилось покатиться, пересчитать затылком десяток ступеней и теперь лежало без сознания. Во дворце вместо вчерашнего веселья воцарилась особая медицинская тишина.
– Недобрый какой-то знак подает судьба, – думала Золушка, и сердце ее сжималось от неясных предчувствий... Почему так скоро... за что? Если счастье с чудесной книгой сравнить, – она дальше первой страницы еще и не листала... Несправедливо. Может, обойдется все-таки?
Глава третья.
Про гусей и гусятину, про Совет Короны и творожок,
за который надо платить, и весьма дорого...
Возможно, вы не увидели никакого особого смысла в названии этой страны – Пухоперония. А любому здешнему школьнику он был яснее ясного, этот смысл. "Да от гусей это слово пошло... От кого ж еще-то? Все у нас – от гусей..." – сказал бы школьник, скучая и сплевывая от досады непонятно на что...
Вот так. Если в жизни древнего Рима была какая-то историческая роль у этой птицы, то для Пухоперонии она еще и огромную хозяйственную роль играла, и экологическую, и бюджетно- финансовую, и внешнеторговую, и культурно-фольклорную, и эстетическую, и даже религиозно-философскую (я не шучу), и нравственную, и воспитательную, и, кажется, почти мистическую! - хотите верьте, хотите – нет... В общем, не зря средний школьник закатывает от скуки глаза: устанешь перечислять все гусиные роли! А зануды-учителя требовали и перечислить, ни одной не забыв, и объяснить каждую!
Если перед вами был герб королевства, – кто на нем бросался в глаза? Правильно. Он самый... Богатство страны привыкли здесь измерять – чем? Поголовьем гусей. Любой экипаж обязан был дожидаться почтительно, если дорогу пересекал неспешный гусиный выводок... Даже если обнаглевшие птицы нарочно шли вразвалочку, издевательски испытывая терпение людей и коней.
По традиции гусь вышивался на скатертях, простынях, салфетках, ковриках, на фартучках горничных и официанток... Хозяин любого кабачка не раздумывал, чье изображение должно быть на его вывеске! Да и художники, изготовлявшие такие вывески, ничего другого и не пробовали рисовать, и не умели... На офицерских эполетах даже красовался опять-таки – кто? Да он же, он... любимый и постылый!
Это ничуть не мешало пухоперонцам ощипывать своих кумиров и жарить их, и фаршировать их яблоками, и употреблять их с кислой капустой... Вас приглашали на обед – и можно было не гадать, что будет подано как коронное блюдо. Ничего вкуснее не знали пухоперонцы, но – правда превыше всего! – но и надоело им любимое блюдо чертовски, хуже горькой редьки опротивело... Главным предметом домашней утвари у всякой здешней хозяйки была, конечно, гусятница. Но как же хотелось ее вышвырнуть иногда!.. Пухоперонские желудки еле-еле выдерживали давящую послеобеденную тяжесть от коронного блюда, вред от этого горячего жира... Три года назад в одной осмелевшей газете (потом ее закрыли) промелькнуло даже выражение: "гусиный террор"!
В мае мы с вами обычно отплевываемся от тополиного пуха, а в этом королевстве все 12 месяцев и в глаза и в ноздри и в уши лез, то и дело на язык попадался пух известно какой, – произносить, и то скучно... Просим прощения: может, и утомительное получилось вступление, но без него мы рискуем дальнейшего не понять.
| Ложку облизать и спрятать |
Прошло всего несколько дней после свадьбы в королевском дворце. И странное дело – выражение из той дерзкой газеты было теперь на устах даже у членов Совета Короны – у министров, сановников, высших военных, у их жен и у фрейлин. |
А новости на этот раз были политико-продовольственные, они касались каждого – через личный его желудок. Известно ведь: бурление в собственном желудке заглушает для большинства артиллерийскую пальбу в чужих краях, грохот тамошних землетрясений и вообще что угодно: это там где-то, а я тут, и я у себя один, ненаглядный...
Министр эстетики Фуэтель объяснял маркизу Посуле:
– Блюдечко свежего творога и кофе с рогаликом – вот и весь мой завтрак! Скромно, не правда ли? Неприхотливо. И так уже восемнадцать лет... И вдруг говорят: не будет больше творога, сочиняйте себе другие завтраки!
– Да, это обидно, – согласился маркиз. – Но почему?
Фуэтель поглядел на него с сожалением: вся библиотечная зала во дворце, где будет Совет Короны, уже час гудит от скверных известий, а этот глазами хлопает, ни о чем не слыхал...
– Потому, маркиз, что эти 18 лет мы ели творожок, оказывается, бесплатно, а должок наш все рос!
– Виноват... кому должок?
– Фармазонии! Кисломолочные острова – они чьи по-вашему? А теперь они якобы заявили: попользовались – и баста! Теперь прикиньте, с чем мы останемся. Сплошная гусятина – какой желудок это выдержит? Мой – точно не сможет!
– Виноват... они на что-то рассердились?
– Еще бы! Фармазонский посол дважды приходил за ответом – и не был принят! – на этих словах Фуэтель деловито нахмурился, щелкнул крышкой карманных часов, изобразил на лице, что его ужаснул бег стрелок – и отошел.
В другом углу одна старая фрейлина пытала генерала по фамилии Гробани – ответчика за всю оборону страны, между прочим:
– Нет, извольте мне растолковать, генерал: простокваши это тоже касается?
– Всего, всего касается, мадам! Тут в чем штука вся? Кисломолочные острова могли бы стать нашими. Они даются за принцессой Юлианой, это часть ее приданого... А на нет – и суда нет! Без Юлианы мы не получим ни творога, ни простокваши, – ни одного черпака, мадам! Граница уже на замке!
Он собрался откланяться, но приставучая старая дама вцепилась в его эполет:
– Слушайте, но мы женаты уже! Я хочу сказать – наш принц. Как же быть?
– Платить должок за творожок, – скривился он от необходимости объяснять, что 2x2=4. – Самое обидное – за давно уже съеденный. А на новый не нацеливаться: ложку облизать и спрятать за голенище! И радоваться, если не будет войны! Честь имею!
Генерал Гробани звякнул шпорами и круто повернулся. Старуха уже в спину ему возмущалась:
– Но у меня нет никакого голенища! Это раз. Во-вторых, без простокваши я не могу!.. А в-третьих, мы ж не притворялись, мы на самом деле сломали ногу! Я хочу сказать – наш добрый король... На что же обиделся их посол? С чего они такие нервные?
Отвечал ей уже другой человек – молодой и юркий советник министерства справедливости и общегуманных вопросов:
– Балтасара, изволите ли видеть, интересует совсем другая нога. Точнее, наш отзыв о ней. Он рассчитывал, что туфелька придется как раз по ней, что наш принц уже заочно будет влюблен и что великой честью для нас было бы породниться с ними... Если же нет – молочных продуктов, считайте, тоже нет!
...Да, творожно-сметанно-простоквашные вопросы в теснейшей связи с военно-политическими (как говорится, в одном пакете с ними) обсуждались во всех углах огромной комнаты; ровный,негромкий, озабоченный гул иногда взрывался криком – чаще дамским, конечно. Ждали принца Лариэля: по причине болезни короля проводить сегодняшний Совет Короны должен был он – больше некому. О принце говорили, однако, что его видели в парке на потной гнедой красавице-кобыле: он обожал прогулки верхом. Причем без всякой охраны, в одиночестве.
Министр без портфеля Коверни взял под руку маркиза Эжена де Посуле, того самого, которому объяснял положение министр эстетики:
– Поторопились мы, друг мой. Пока это не окончательно, но боюсь, что погорячились мы с вами, как мальчишки...
– Мы? А в чем?
– В личных делах, в личных! С этим нашим сватовством... (Тут нужна справка: со вторника господин Коверни был помолвлен с Колеттой, старшей сводной сестрой новой принцессы. Что касается Эжена де Посуле – он с того же дня считался женихом Агнессы, другой сестры Золушки).
– Кое-кто уже поглядывает с насмешечкой! – шептал Коверни приятелю. – Чуете? Вчера – с завистью... а уже сегодня – с насмешечкой! Что сие означает? Думайте! – и он исчез, оставив маркиза беспомощно томиться в догадках.
В эти же минуты с министром финансов господином Нанулле прохаживался Бум-Бумажо, стихотворец и журналист, которого сделали в прошлом году министром свежих известий. Бум-Бумажо сообщал старому финансисту, что дела в Пухоперонии обстоят очень неважно: например, за четыре месяца не выплачено жалованье офицерам... Г-ну Нанулле предлагался вопрос: слыхал ли он, чтобы в каких-либо краях поступали так государственные люди? Чтоб при таком положении казны они устраивали роскошные королевские балы, вальсировали там с таинственными незнакомками? И тут же в лихорадочной спешке женились? Причем женились на бесприданницах! – за которыми не только островов не дают, но даже и пары хорошего белья, кажется... Что это – высшее бескорыстие или...
Выражался министр-поэт со старательным изяществом – чтобы, с одной стороны, быть смелым, а с другой – чтобы не поставить под сомнение свою преданность трону. От речей г-на Бум-Бумажо вы, если вы собеседник его, всегда выносили впечатление, что у него, бедняги, день и ночь болит сердце за отечество! А сейчас у вас еще оставался вывод (не его, нет-нет, а ваш собственный, самостоятельный, пугающе смелый – прямо ведь вам никто не говорил этого!) – что наследнику опустевшей казны никак нельзя было откалывать таких номеров, какой принц Лариэль отколол на прошлой неделе... А впрочем, не позволяйте, чтоб вам попусту морочили голову: новости, сообщаемые с такой особой доверительностью, ни для кого из присутствующих уже не были новостями, да думали все они про это почти одинаково, так что смелость эта казалась какой-то ватно-елочно-игрушечной...
Слушал, слушал поэта г-н Нанулле (левым ухом – правое оглохло у него одиннадцать лет назад) и не выдержал:
– Кому вы все это рассказываете? Мне? Правильно вас обозвал король на прошлом Совете: "министр прошлогодней сметаны"!
Бум-Бумажо сам был на прошлом Совете и не слышал ничего похожего. Сейчас он застыл: король действительно сказал это? Может, только г-ну Нанулле... и только в правое ухо ? Может, зловредный финансист нарочно ляпнул такое, чтобы Бумажо мучился?
| Графини и женихи |
Мы забыли сказать, что большая библиотечная зала со всей этой публикой располагалась на втором этаже. А на первом появились тем временем три дамы, которые могли бы показаться знакомыми вам, смотревшим кино про Золушку и читавшим ее историю у разных авторов... |
Помните, принц говорил, что теперь у них появился графский титул, обнаруженный в старинном документе? "Графини" только вчера узнали об этом и явились благодарить самого короля и сына его. Они ничего не знали о Совете Короны, о чрезвычайной повестке дня, о беде с молочными продуктами, о Фармазонии... После свадьбы у этих дам появилась уверенность, что теперь во дворце они всегда будут кстати – по крайней мере, тут все и каждый должны делать вид, будто рады их визиту безмерно...Пока они охорашивались перед зеркалами, их успел увидеть "свежесосватанный" с Колеттой господин Коверни.
Он тяжело дышал, когда они с Эженом де Посуле отыскали друг друга.
– За нами пришли, Эжен...
– Кто?!
– Гляньте сами. Вниз. Ну перегнитесь через перила и гляньте! Аккуратней только... чтобы не угодить в мышеловку!
Перегибаться Посуле не стал – ему достаточно было протиснуть лицо меж двумя столбиками балюстрады. Он увидел и расцвел: Агнессочка! На ней было голубое платье, оно ей чертовски шло...
– Арман, мы разве не спустимся? Совсем? Почему вы сказали про мышеловку?
На это Коверни сказал свистящим шопотом, что они – не сиамские близнецы. Что Эжен имеет право спускаться, обнюхиваться, целоваться с ними, идти под венец и так далее. Арман Коверни ему не указ.
– Указ, – жалобно возразил Посуле. – Вы мне очень даже указ... Но разве мы не хотим уже породниться с новой принцессой?
– Выждать надо, теленок вы этакий, – не слишком вежливо объявил Коверни. – Осмотреться. А если эту принцессу очень скоро съедят с фармазонским творожком? Что тогда ?
Долгожданный приход Его Высочества принца Лариэля положил конец этому разговору; прекратилось журчание и всех других словесных ручьев, их будто большим камнем перегородили на полуслове...
Принц возник там, внизу, весь в кожаном, в сапожках; по одному сапогу его рука нетерпеливо постукивала стеком. Когда подскочили и присели в поклоне перед ним мадам Колун с дочками, - лицо его изобразило родственное радушие... впрочем, невысокого градуса и пополам с кислятиной. Дамы сказали, что пришли благодарить за "графинь". Принц отмахнулся:
– Пустяки, это сделал еще мой прадедушка... Мы только нашли пергамент.
– Тоже ведь... поискать требовалось, – сказала мадам Колун с ударением и с нежнейшей улыбкой, какую только умела изобразить.
Затем она спросила о драгоценном здоровье Его Величества - Лариэль отвечал, что пока хорошего мало: и докторам не нравится этот перелом, и сам больной ужасно капризничает, успокаивать его удается одной лишь Анне-Веронике... Принцесса проводит много времени возле его постели, король прямо-таки не отпускает ее от себя. – А сама-то она как, моя птаха?– спросила мадам Колун, и принца передернуло: надо же быть такой лживой лисой!.. Он сухо сказал, что жалоб у птахи нет, что сама она – просто чудо, а те синяки, которые она принесла из родного дома, – уже, слава Богу, проходят... Сказал – и добавил, начав уже подниматься, что опаздывает, что ему пора... Тут все три родственницы стали просить: пусть им пришлют сюда – хотя бы на десять минут! – Армана Коверни и Эжена Посуле: принц, возможно, и не знает еще, но эти господа со вторника обручены с Колеттой и Агнессой. Принц стал припоминать: Посуле... Коверни... а кто они такие, собственно говоря? Невесты наперебой стали описывать ему своих женихов, но Лариэлю все это надоело, он сказал:
– Если они входят в Совет Короны – десяти минут у них уже нет, я сам опоздал на сорок... в том числе из-за вас, дорогие родственницы... Не угодно ли вам подождать в саду до конца Совета?
– Во-во, мы там отдохнем пока. И этих дождемся, и, надеюсь, - ненаглядную нашу Зо...– тут мадам Колун закрыла себе рот ладонью. – Ой, опять забыла, пардон...
Имя, каким теперь велено было называть Золушку, никак не хотело запоминаться, входить в привычку.
– Не нужно забывать, мадам, – сказал с лестницы принц Лариэль. – Зо... вы уже не дождетесь!
В два прыжка очутился он перед вельможной толпой, которая истомилась наверху в ожидании. Попросил ее, притихшую тревожно, чтобы остались здесь только члены Совета. Больше половины присутствующих стали спускаться с разочарованным видом: почему-то они думали, что их чины и титулы позволят им участвовать... мысленно они обзывали принца молокососом, но не могли не почувствовать: сегодня он уже какой-то иной, этот юнец, совсем по-другому держится...
| Опять неудачница? |
А в дворцовом саду мачеха Золушки говорила дочкам: – В няньках она при короле, в сиделках – поняли? Чему тут завидовать? Ну не может деваха себя поставить, кем ни назначь ее! |
Колетта и Агнесса полностью были согласны с этим... Но мысль о том, что они здесь – гости, а эта Зо... – хозяйка все-таки и принцесса, незатухающим углем жгла внутренности... К тому же ясно сказал королевский сын: она – просто чудо ! Уши в трубочку сворачивались – слышать такое... Так ли говорят про них самих Арман и Эжен? И, кстати, почему эти женихи – столь незаметные члены Совета, что принц с трудом припоминал их?
| Роль весны в политике |
...Среди членов Совета немало было старичков, а все-таки они приветствовали Его Высочество стоя. Осмотрел их Лариэль внимательно и движением руки усадил в кресла. |
Первые слова его были про здоровье отца (об этом мы уже слышали) и про то, что разболевшийся король поручил ему занять его председательское место в этом заседании... и вообще настроился передавать Лариэлю корону!. Да-да, при жизни еще... не потом когда- нибудь, а вскоре !
Принц расхаживал перед ними, сидящими: он только что – из седла, ему надо было размяться. Неожиданно он похвалил весну, погоду, деревья, на которых появилась уже молодая листва, и тепло отозвался о птицах – за то, что они своевременно, без опоздания, вернулись в Пухоперонию из жарких стран...
Свое мнение о весне он предложил высказать старому Нанулле, министру финансов. Тот долго не понимал, чего от него хотят, а потом все-таки выдавил из себя: да-да, согласен, весна недурна, он, пожалуй, готов поддержать такую весну, если большинство – того же мнения...
Такое вот странное начало. Никто не понял, как от весны принц перескочил к идее о том, чтобы убрать из Свода законов параграф о смертных казнях и чтобы прямо сегодня отправить на пенсию палача... Лица у всех сделались озабоченные. Генерал Гробани сказал: если преступники и смутьяны лишатся страха, тогда общество лишится покоя! И все загудели одобрительно: это было сказано хорошо, крепко, просто, но до молодого королевича не дошло почему-то...
Ни с того ни с сего поддержал принца тот, от кого меньше всего этого ждали, – барон Прогнусси (специальностью его считались "справедливость и общегуманные вопросы"). Этот человек в зеленоватых очках восседал, если присмотреться, на особом стуле - двухэтажном. Такие стулья делают для карапузов, еще не очень умеющих ходить, чтобы они могли чувствовать себя на равных с большими за общим столом. Дело в том, что барон был карлик: мужчинам среднего роста макушка его доставала до живота. Природа распорядилась насчет него как-то уж очень обидно... А вот прозвище барон имел длинное, забавное, но не очень, и граждане всегда выговаривали его одним духом, без запинки и только шепотом: "Сточетыресантиметрастраха"...
Кто-то решил (уже довольно давно), что на справедливость и гуманность в Пухоперонии – этих 104-x сантиметров достаточно... Так вот, карлик сказал своим шелестящим, вечно утомленным голосом:
– Вы, генерал, нашего принца не запугивайте... Ему надо красиво начать... не мешайте. Никто не лишится ничего... Поаплодируем, господа, благородной гуманности нашего принца, его высоким душевным качествам!
Захлопали вяло, но острый взгляд барона-карлика и его сухие, громкие, как выстрелы, аплодисменты прибавили твердости всем – и они целую минуту хлопали. Возражавший генерал – тоже.
Нетерпеливым ударом ладони по столу принц остановил эти приветствия:
– Полно, – за что? Про казни я сказал потому, что подумал о своей принцессе: не позволит Анна-Вероника устраивать их! И не надейтесь! Отец тоже ведь делал это против своей воли... только вашим уговорам уступая... Хлопали вы, таким образом, моей жене, господа: казни в Пухоперонии прекращаются с ее появлением! Знаете, мне вообще кажется: если меня в королевских делах не туда занесет – она поправит!
Да, да, я – серьезно... Это даже в танце можно почувствовать: она вам просто не даст погрешить против музыки... уверяю вас... даже если медведь вам на ухо наступил. Никто из вас не танцевал с ней? Ах да... я не отпускал же ее ни с кем, жадничал, – вы при всем желании не могли... Кстати, господа: если кого-то из вас я не успел еще представить принцессе, вы подойдите потом, когда мы вместе будем, – я никому не откажу, познакомлю... – лицо принца светлело, когда он говорил это.
(Нет, что ни говорите, – странное направление приобретал нынешний Совет Короны: сперва – о весне... теперь – о жене...)
В этот момент появилась запоздавшая тетя Гортензия – сестра покойной королевы. Она не извинялась – наоборот, ей казалось неприличием, что Совет решились начать без нее:
– Ух ты! А я думала – отменили, перенесли... Племяш, что ж за мной-то не послал? Не нужна стала?
– Я ни за кем не посылал, Ваша светлость, – кто пришел, те и участвуют. Устраивайтесь. И не будем здесь называться тетей и племянником, неудобно.
– Перед кем же? – смутить тетю Гортензию было не так легко. Она села и достала вязанье из парчовой сумочки. – На это ты не гляди: все мои вещицы на Советах Короны связаны... нервы очень успокаивает... Ну? Про что говорили?
– Про любовь, представьте себе! Вот некоторые улыбнулись наконец – уже неплохо! Пусть же улыбки будут пошире, господа, посмелей, и без ехидства, без задних мыслей!...
(К чему он призывал, о чем просил?! Не наивно ли - здесь желать искренности?)
| Страх перед юностью |
– Господин Нанулле! По-моему, вы все время что-то вычитаете в уме. Не надо, кончайте эту финансовую тягомотину, а? Вспомните лучше юность свою! И расскажите нам, как вы куролесили, как безумствовали в честь той девочки, что была первой у вас? Сколько вам было тогда? 19 лет? 21? А может,16? |
Старый Нанулле встал и поднес дрожащий монокль к левому глазу:
– Виноват, Ваше Высочество... недопонял... Вы намекаете на средства из казны, брошенные на ветер? За какой именно период вам угоден отчет? Никогда я не безумствовал... Меня оклеветал кто-то... Я могу сейчас же подать в отставку! – бедняга нелепо взмахнул рукой с платком в клеточку.. Лучше бы вовремя поднес этот платок к носу, – ибо капля, бесчувственно висевшая там уже давненько, шлепнулась на бумаги в этот миг.
Лариэль сам подошел и усадил ветерана и полушепотом спросил у других, чего именно старичок испугался так. Барон Прогнусси сказал:
– Юности, мой принц. Он испугался вашей размашистой юности.Но если и своя припомнится ярко – тоже опасно, знаете ли... (Почему это опасно – барон не объяснил). Оставьте его, Ваше Высочество... под ним мокро сейчас будет.
– О... тогда не тревожьтесь, господин Нанулле... я вас больше не трону, можете мирно вычитать дальше...
Что ж, господа, нет желания вашу прежнюю любовь вспоминать, - не будем, Бог с ней. Но я не понял: отчего это наши газеты никак не отозвались на нынешнюю, на мою?! Я думал, выйдут газеты с большим портретом моей принцессы... отчет о свадьбе будет на первых страницах... Но и на последних ничего нет! Господин Бумажо!
| Примерка? | Тут принцу подсказали, что на самом деле фамилия эта – Бум-Бумажо. Фуэтель подсказал,
министр эстетики. – Бум? – переспросил принц. – Так тем более! |
– Вы же свежих известий министр? Или я ошибаюсь?
– Нет, все правильно, мой принц. Свежих известий и неприукрашенных фактов.
– Так в чем же дело? Известие совсем еще тепленькое и факт ничуть не приукрашенный: женился наследник престола. И народ не должен об этом узнать?
Эжен де Посуле решился подать голос:
– Да-да, умалчивают почему-то! Я вот тоже открываю сегодня газету... Одну, вторую... Ни слова! Я понял бы, если б про что-то плохое умалчивали, про трагическое... скажем, про перелом ноги Его Величества...
Барон Прогнусси сказал мрачно:
– Спрашивают не вас, маркиз. Вас – не спрашивают.
Арман Коверни поглядел на приятеля и молча сделал сверлящий жест указательным пальцем около виска.
Бум-Бумажо, пыхтя и розовея, начал объяснять. Логика у него получалась такая: в прошлом газеты торопились сообщить о каком-то происшествии, а потом оказывалось, что факта или вовсе не было, или он был с другими участниками и совсем не так, как в отчете... Поэтому умудренные опытом друзья-советчики подсказали газетному министру: ничего страшного, если обыватели Пухоперонии узнают эту новость несколько позже...
Был приведен случай с виконтессой де Маркусси: об ее кончине дали уже объявление в черной кайме, а когда к ней явился гробовщик и достал свою рулетку, он сам, с его-то опытом, чуть не отдал Богу душу... Виконтесса открыла один глаз и произнесла:
– Обрадовались, голубчики?
Эту жуткую историю со смехом поведала тетя Гортензия, она лично видела эту сцену... Принц терпеливо слушал, потом не выдержал:
– Так вы полагаете, господин Бум-Бумажо, что моя женитьба - неокончательная какая-то? Что она – наподобие репетиции, что ли? Или примерки?
Министр сначала заявил, что, разумеется, так он не думал, не посмел бы думать! Потом уцепился за слово примерка: ведь поиск невесты как раз и шел этим необычным путем... Но выполнялась эта замечательная идея с туфелькой – пусть Его Высочество подтвердит – наспех, в суете и спешке, охвачены были не все округа...
– Ведь могло же бы... могло бы же так случиться, что подходящая ножка оказалась бы не у одной лишь Анны-Вероники, которая – поверьте, мой принц! – внушает мне величайшую симпатию и уважение. Видит Бог: на самом деле внушает... Но в редакции моих газет до сих пор приходят подобные письма... – и один лист Бум- Бумажо предъявил всем: авторша, видимо, поставила на этот лист ножку и аккуратно обвела ее грифелем.
– Девушке никто ничего не мерил, а сама приехать она не могла: заболела краснухой... Ну а когда пошла на поправку, – принц уже сделал свой выбор... Внимание, господа, я прочту:
| Чаша с ядом | "Как и тысячи других пухоперонских девушек, я бы поплакала и забыла, если бы всех нас обскакала знаменитость какая-нибудь, звезда, принцесса-иностранка... |
Эжен Посуле снова подал голос, перебивая:
– Позвольте! Но это грубо... и, кроме того, непра...
Никто из членов Совета не хотел бы, чтобы его смерил такой взгляд барона-карлика, – взгляд, под которым Посуле сразу, конечно, онемел и скис... А Бум-Бумажо постарался сократить при чтении подробности о краснухе. Важна была концовка письма:
"– ...Передо мной чаша с синильной кислотой. Как только я запечатаю письмо, я выпью ее до дна. За вас, принц Лариэль, за Ваше счастье. Боюсь только, с пигалицей Вам его не видать... Этот след ступни, которая больше не пройдет ни шагу, заменит мою подпись и адрес..."
Фуэтель с чувством предложил:
– Помянем, господа, эту безвременно угасшую жизнь. Она была в самом начале...
Одни встали с опущенными глазами, другие, наоборот, возвели их к потолку... И целую минуту стояли, чуть покачиваясь. Эта лицемерная, насквозь фальшивая, как показалось принцу, минута молчания накалила его до бешенства. Особенно после слов барона Прогнусси, исполненных, вроде бы, большого сочувствия к Лариэлю:
– Нет, вы подумайте, господа: наш принц приходит объявить эру гуманности, отменить казни... и спотыкается об холодеющее девичье тело! Он хочет знать, кто в ответе за отнятую жизнь... "Вы, мой принц..."– стонет сама жертва и умолкает уже навсегда. Нелегко такое переварить. Тем более – будут и еще сюрпризы в этом роде...
Тетя Гортензия попросила его не каркать, поскольку и без этого она вся в гусиной коже...
Лариэль закричал, что не убивал он "эту идиотку" ! Что он и она отродясь никогда друг друга не видели! И потом – вполне вероятно, что она вовсе не выпила яд, а просто берет, как говорится, на пушку!
На это карлик в зеленых очках сказал, что если принцу угодно увидеть тело, – он увидит его. И принц уронил голову на руки.
Тут Бум-Бумажо подвел итог своей самооправдательной речи - речи путанной, но к финалу окрепшей:
– Мог ли я, Ваше Высочество, безжалостно напечатать то, что вызвало бы новые сотни таких писем? А главное, таких поступков? Я медлил нанести бедняжкам этот последний удар...
Лариэль сказал с ненавистью: министр сочиняет стишки, кажется? Так пусть напечатает пронзительный стишок в утешение всем, на ком их принц не женился! Глубокие соболезнования в рифму... Пусть Бум-Бумажо женится на этих отверженных сам, в конце концов! Дороги они ему? Пусть докажет – возьмет их себе!
Тут Лариэль заметил, что члены Совета передают друг другу и жадно разглядывают какие-то карточки. Всезнающий коротышка Прогнусси пояснил: это фото – не знакомая еще в Пухоперонии, но совершенно безобманная техника... сходство дает поразительное! А на этих карточках – одна и та же девушка в разных видах... Министр эстетики, разглядывая один пляжный снимок, заявил, что девушка - просто божественна... напоминает Афродиту, выходящую из пены морской...
Красавицу запечатлели по-всякому, во многих вариантах: вот она со своей собакой (пес был устрашающих размеров), а вот – с папашей: она пишет маслом пейзаж, а родитель заглядывает в мольберт через ее плечико. Родитель этот оказался не кем-нибудь, а Балтасаром, королем богатой и прогрессивной Фармазонии. Карточки прибыли сюда из фармазонского посольства, конечно... Тетя Гортензия знала, что с детства Лариэля опьяняли тюбики с красками, и радостно объявила: мало того, что принцесса Юлиана хороша собой, еще их сближает с Лариэлем общее увлечение искусством!
| Стоим как утес! |
Принц понял: они ведут дружную психическую атаку на него... то лобовую, то обходным маневром... Черта с два проявит он слабость! |
Тетя Гортензия разгневалась:
– Сутяга он, этот король Балтасар! У них целые озера отличного творога, он так и прет бесплатно, сам собою! – шумела она. – И протухал, пропадал бы псу под хвост, если б мы не брали его! Жмот!
Принц Лариэль из последних сил изобразил спокойствие, уверенность. Что ж, будем платить, никуда не денешься, – сказал он. Введем особый творожный налог на всех состоятельных людей. Растолкуем в печати, почему нет у страны другого выхода. И начнем с самого Совета Короны: каждый из присутствующих внесет по 12 тысяч фуксов, если без молочных продуктов он не представляет своего меню...
Нам, господа, всем придется туго... Моей семье тоже, представьте: жемчуга покойной королевы-мамы, подаренные принцессе Анне-Веронике Его Величеством, теперь надо будет со стыдом попросить у нее обратно и продать... Одни не поверили ему, другие не нашли в его словах утешения. Взгляды были все исподлобья, затравленные, недовольные... Еще бы: отстегивать по 12 000 своих кровных!..
Фото, о которых принц не забыл (не дал, например, Фуэтелю две карточки прикарманить!), были, наконец, собраны и лежали возле Лариэля. Не глядя, он стал брать каждую – и рвать ее.
– Вот мой ответ, господа... Мой ответ... Можете запихнуть его в шляпу господина посла!
Наступило молчание – запуганное, подавленное. В пяти или шести разных министерских головах бурей промчалась одна и та же мысль: "Узнает фармазонский папенька – войну, чего доброго, затеет..."
И – словно вестник этой угрозы, появился в дверях офицер. Те министры подумали: "Что-то уж больно скоро..." Дальше дверей офицер шагать не смел, а его голосовые связки оказались сегодня не в порядке: он попытался что-то доложить, но, если б на его месте докладывал лещ или окунь – результат был бы тот же! Генерал Гробани сделал значительное лицо и расправил плечи: плохие вести – ему принимать первому! Он объявил принцу, что должен отлучиться: за ним прибыл адьютант... Рассеянным жестом Лариэль отпустил его – генерал вышел.
Министр эстетики не удержал при себе того, о чем думали все:
– Теперь со дня на день жди беды... Какой ужас! Ваше Высочество, ну вглядитесь же получше: ведь ей-Богу, хорошенькая! - Фуэтель совал принцу те два припрятанных снимка. Они были у него грубовато отобраны, но порвать их Лариэль не успел...
| Как принца в герои тащили |
Распахнулись двустворчатые двери – и въехал на кресле-каталке сам король, держа на специальном штативе свою загипсованную ногу, которая резко увеличилась в размерах. Короля привезла сюда Золушка. Члены Совета встали. Прожженные политиканы – и те глазели на эту ногу и на эту принцессу с жадным детским любопытством! |
Алкид Второй Уступчивый между тем объяснял:
– Мы ненадолго. Мы вообще-то и не собирались сюда. Но мне мой повар вдруг говорит: "А творожка, Ваше Величество, больше не будет... Это, говорит, я заявляю официально – как первый заместитель министра кулинарного искусства!" А лейб-медик и вовсе огорчил: без творога, дескать, королевская печень обходиться не может... Я, мол, за нее не отвечаю тогда! Вот из-за этого разговора я и был ВСТВОРОЖЕН!.. Фу, черт, – обеспокоен... И вот приехал. Говорят, все это во внешнюю политику упирается? – взгляд короля перелетал, как испуганная бабочка, с одних министров на других, с лица на лицо...
Герцогиня Гортензия любила рубить правду-матку, рубанула и сейчас: верно, многое во внешнюю политику упирается, но еще больше – в гордыню и упрямство королевского сына!
Но Его Величество не услышал почему-то этих громко сказанных слов. Он ждал хороших, светлых известий! Таких никто не объявлял, и тогда король решил сам успокоить всех:
– А знаете, что мне наша принцессочка сказала, когда мы сюда ехали? Она умеет сама готовить творог! Своими ручками... из молока! Много раз, говорит, делала... – король засмеялся счастливо. - Мы спасены, по-моему! А по-вашему?
Пауза была и было замешательство.
– Я, конечно, не министр кулинарного искусства, даже не заместитель его, – с иронией сказала Гортензия, – но мне кажется, это не то... Для печени? Нет-нет. Одно название.
Авторитетный карлик Прогнусси тоже развеял ребяческие иллюзии:
– Ну, разумеется, смешно домашней стряпне тягаться с натуральным продуктом Кисломолочных островов, с его целебным действием!
А скрипучий чей-то голос добавил:
– Тем более что простокваши это касается тоже...
Прогнусси знал, старый лис: ободрить короля просто необходимо, не переносит он мрачных выводов. Должен что-то бодрое, положительное услышать, не то – через минуту будет скандал, истерика... И барон произнес:
– Ваше Величество, я позволю себе заявить: Совет Короны верит в своего молодого лидера! В его незаурядное политическое чутье, в его редкую для столь юных лет дальновидность... К этому я рискнул бы добавить удивительную, спасительную для всех нас способность принца ставить интересы королевства в целом превыше всего...
Едва ли принц слышал это ясно – он смотрел на Золушку. Затем – на фотокарточки, лежащие перед ним, порванные и уцелевшие. И опять – на Золушку...
– Может быть, я льщу принцу, господа? Или идеализирую его? - повысил голос грозный карлик и поглядел так, чтобы эти раскисшие и перепуганные министры соблаговолили поддержать его! Чтоб включили мозги, черт возьми, если это вещество не у всех еще протухло...
Тут Бум-Бумажо почувствовал: его минута настала. Он взял слово, чтобы перепеть на свой лад только что сказанное, во много раз усиливая. Король узнал, что "кризис на Кисломолочных островах делает его сына поистине героем нашего времени. Прямо на глазах, вот в эти минуты!". Была выражена уверенность, что королевская печень – в надежных руках... Равно как и желудки всех подданных пухоперонской короны вместе с их кошельками!.
– И заодно с казной, – вставил министр финансов. – Для казны наш принц может такое сделать... Никто такого не может!
И все загудели: с таким принцем не пропадем!
Король с надеждой и гордостью поглядел на Лариэля:
– Сынок, слыхал, что говорят? Вся держава на тебя смотрит, ты уж не подкачай. В общем, вы тут решайте, господа, а мы поехали. Давай, милая, разворачиваться. Доскажешь мне ту сказку, что начала... Ой, она столько сказок знает, моя невестушка! Но вы тут решайте этот вопрос принципиально! Да, сынок? Без этой, знаешь, интеллигентской мягкотелости... Успеха вам!
| Дуэль за похвалу. |
И Золушка развернула королевское кресло. Однако в самых дверях
притормозила, оглянулась... С мужем неладное что-то, чувствовала она. – Ваше Высочество! – ее голос прозвучал тут в первый раз, причем в абсолютной тишине. – Лариэль... Вам что – трудно, нехорошо? Вы так странно молчите... Это не из-за меня неприятности? Может быть, мне лучше уйти? – Вот умница! – негромко произнес кто-то... |
– Что? Повторите, пожалуйста, она не слышала! Тут, дорогая, похвалили тебя... великодушно. Ты вот что: увози, увози папу. Я уже скоро закончу тут...
Двери за креслом короля и Золушкой закрылись.
И принц стал допытываться, кто именно сказал его жене "вот умница". По его тону и виду можно было понять, что автор этой реплики будет иметь бледный вид. А потому – не спешил высовываться.
Тетушка Гортензия, сделав простецкое лицо, удивилась: а что – лучше было бы, если б про нее сказали – дура?
– Вы, тетя, из меня-то самого не делайте дурака! – отвечал принц, по-настоящему разгневанный. – Моя жена спросила: "Может быть, мне отсюда уйти?" – и ей на это было сказано, что она "умница"! Трусливо сказано, исподтишка! И мне желательно объявить автору этого комплимента, что он – гадина, вызвать его на дуэль и заколоть еще до обеда! Но он растворился. Вы, господа, спрятали его...
В этот момент вернулся мрачный, подавленный генерал Гробани. Тихонько... даже не все заметили, как он вошел.
– Так вот, имею честь сообщить, – подытожил принц с откровенной ненавистью. – Я от всей души презираю ваше сплоченное большинство, господа... и его дурнопахнущее мнение! Странная война.
Но эти слова не успели обратить их в пепел (а со стороны казалось, что должны). Это впечатление было перекрыто новостью от генерала Гробани:
– Господа! Они уже обстреляли наши полевые кухни! Мне только что доложили... Может, это и не война еще, но уже и не мир. Два часа назад, господа... Из какого-то неслыханного автоматического оружия.
Была немая паническая сцена.
– Наши растерянно захлопали из своих мушкетов, – продолжал старый вояка. – С таким же успехом могли бы – из рогаток мальчишеских...
Возмущенный голос Эжена де Посуле был единственным, кто отреагировал на эту новость вслух:
– Но, господа, это же дико! Так никто же ни к кому же не сватается же. Тем более, к женатому человеку...
Принц Лариэль сказал хрипло:
– Совет Короны окончен. Я устал.
В молчании расходились члены Совета... Задержался один только генерал, он склонился над принцем, который обессиленно сидел один у стола.
– Ваше Высочество...– начало было пробное, осторожное. – Вот мне лично нравится выбор ваш: славная, чертовски славная девушка, - признался генерал (моему бы шалопаю такую! – мелькнула в седой его голове завистливая мысль: его сын был женат уже в третий раз и опять не слишком удачно). – Красиво вы сейчас закончили: презираю, мол! Только это бесполезно, вы уж поверьте старому служаке. Все равно, что кисель бритвой резать. Все равно как мушкету нашему презирать их автоматическое оружие...
Генерал вздохнул и вышел. Принц продолжал сидеть.
Глава четвертая.
про эгоизм на пенсии
и про 40 000 кусочков, составляющих одного короля...
Король и Золушка с балкона наблюдали за принцем, который про делывал конно-спортивные упражнения, все более смелые с каждым разом... Королю нравилось! Параллельно своей загипсованной ноге он держал подзорную трубу. Звон копыт, отбивающих бешеный галоп, доносился сюда так четко, будто Лариэль скакал совсем рядом и специально для них, чтобы они оценили. На самом же деле он и не знал, перед кем выступает на красавице-лошади по имени Карма...
Неспокойно было за него Золушке.
– Для чего он ее на дыбы ставит?! Форсит просто? – спрашивала она свекра. – Или... или это он к сражению готовится? К войне?
– Скажешь тоже... Просто через что-то высокое мальчик норовит перепрыгнуть, – успокаивал ее больной король. – Не верю я, дорогуша, ни в какую войну, Балтасар ее сам боится: как только он победит нас, ему всех нас придется кормить! Ну а если все-таки... Тогда нам готовиться недолго: простыней на флаги нарезать да вывесить! Его Величество поманил Золушку к себе, чтоб доверить секретное:
– Мой генерал Гробани постоянно носит ее в портфеле - простыню на случай войны. Свояченица мне говорила... Слушай, а где мой чернослив?
– Уже кончился? Какой вы быстрый... я ведь недавно совсем приносила...
– А блюдо? Мельхиоровое блюдо – думаешь, я и его заодно слопал? Колесили мы с тобой на той половине, там и забыл...
Золушка сказала, что пойдет поищет блюдо, но Алкид Второй не пожелал ее отпустить: теперь уж нельзя его одного оставлять, теперь он в расстройстве!
– Да отчего же? Если все равно не верится вам, что они затеют войну?
– А само слово? Напоминание само? Ты что – мою нервную систему не знаешь? На нее такие вещи убийственно же действуют...
Ясно было: накатывал очередной приступ капризности. Семь или восемь таких приступов случались на дню. Одни были пятиминутными, другие растягивались на два-три часа и не давали покоя.
– Постановили же, – чуть не плакал больной, – ни плохих новостей, ни трудных вопросов! От них кости срастаются медленно или даже криво! Я болен, я в гипсе, я вне игры, я эгоист на пенсии! Я давно прошу, не могу допроситься: щадите своего короля, не докладывайте плохое! Мало ли что может случиться – я вовсе не мечтаю об этом узнать, если оно не радует!
И король привел пример: в городе холера, а дворец штурмует банда головорезов... к тому же, начальник стражи ночью повесился! Если прямо так и доложить, – впору с ума спятить... А как доложит опытный и чуткий слуга престола?
В городе все спокойно, Ваше Величество, заседает конгресс врачей, а прибывший к нам театр дает оперетку из разбойничьей жизни... Ночью начальник стражи на ней уже... что? – пове... се...или -си? Нет, -се! Повеселился!
– Вот оно как делается, чтобы не огорчать! Станешь королевой – требуй такого бережного обращения...
Вдруг свекор сменил тему:
– Никак ты, девочка, не поймешь, кто ты теперь есть... грозная же власть в твоих кулачках!..
– Помилуйте, – она засмеялась даже. – Что мне делать с ней? Особенно с грозной?
Король сказал: любая другая, окажись она в ее положении, давно бы ответила по достоинству "этой фармазонской кошечке". И спросил: не хочет ли невестка направить посылочку Юлиане, этой Балтасаровой дочке, которая на ее место метит? А в той посылочке, допустим, – мышь ? Стал прикидывать: живую лучше? Или дохлую?
Будь Золушка неженкой, воспитанной в дворцовых покоях, она беззвучно, мягенько упала бы в обморок, вероятно. Но мыши не были в ее жизни самым страшным, она с ними даже играла иногда в отчем доме (больше не с кем было), даже музицировала для них!.. Жаль, всего не объяснишь Его Величеству – он сам потеряет сознание, если такое услышит...
Во все глаза следила Золушка за гордой грациозной кобылой мужа (ох, и страдала же красавица Карма от его жестоких шпор! Но - боготворила седока, обожала, вот странность!), а до слуха доносились королевские нотации:
– Ты уж слишком безответна, так нельзя. Моя покойница, бывало, сервиз на сто двадцать персон поколотит, если что не по ней! Изумительно тарелки метала, земля ей пухом... Вот бы у кого тебе поучиться... Вообще-то я дал слово кое-кому, что буду совсем другие мысли тебе внушать. Ладно... замнем... Ты поскучнела что- то. Неинтересно со мной? О чем думаешь?
Она сказала: о Лариэле... о том, как трудно ему.
Тут они услыхали голос герцогини Гортензии: "Алкидушка! Друг мой!" – напевно звала свояченица. Золушка быстро сказала, что пойдет поискать блюдо с черносливом. В дверях они с герцогиней столкнулись, Золушка поклонилась приветливо, но та ничего не пожелала ей сказать, совсем ничего...
| Едет крыша, а на ней – чернослив. |
Гортензия пришла нажимать на короля: он обязан был поговорить с принцессой. Тема была ему задана: долг этой девушки перед короной и родиной. С Его Величеством почти дословно было пройдено и закреплено - что именно ему следовало втолковать, втемяшить ей. На худой конец - только намекнуть. Предполагалось, что девушка почувствует даже тонкий намек, как самую беспощадную метлу. |
– Опять двадцать пять! – закатила глаза герцогиня. – Но ведь и сын ваш продолжает упираться... Нельзя же быть такими эгоистами в конце концов. Страна уже неделю сидит без творога!
-Не вся, не вся – я, например, получаю. И, знаешь, Гортензия, самодельный творог моей невестушки совершенно ничем не уступает...
– А страна ест одних гусей! – слова Гортензии звучали, как оплеухи. – Нельзя же только о себе думать! У всех изжога! Люди столовыми ложками хватают питьевую соду, чтоб гасить этот пожар внутри!.. Нет, друг мой, вот вам последнее слово – не мое личное, а вообще всех патриотов: если принц Лариэль не найдет в себе решимости освободиться самостоятельно, – ему помогут !
– Что... что это значит?
– Сказать вам? Черным по белому?
– Не надо! Ни в коем случае! – до синеватой бледности перепугался король. Он любил, когда – золотистым, например, по голубому, и совершенно не выносил, когда черным по белому. - Постановили же – не огорчать... О, Боже... Мне лучше уйти в монастырь! Нет покоя... У меня давление скачет! У меня мухи перед глазами!
Герцогиня попыталась внушить ему (уже в который раз): не будь он рохлей и сделай что надо, – его уже лучшие профессора Фармазонии лечили бы. А там медицина – не чета здешней... Но он вцепился, как в якорь спасения, в эту свою няню и утешительницу! Незаменимую, видите ли!
В результате оказанного на него давления глава государства плакал, как дитя, навзрыд. Плач заглушал и слова герцогини, и его собственные. Хотя и с трудом, но можно было при желании разобрать, в чем его главная мука: у него нет своего мнения... он ни к черту не годный король...
– Все великие короли были как бы из одного куска сделаны... из одной глыбы. А я? Во мне бренчат сорок тысяч кусочков, мелких и пестрых, и каждый берет себе тот, который ему нужен. Каждый, кому не лень! Отпустите меня в монастырь! Отпустите!
Гортензия призывала его собраться, "вспомнить, какого он пола"... Напрасно: пола за собой король не признал никакого, сам себя клеймил прозвищем "интеллигент" – в общем, окончательно расклеился. А когда приступ самокритики пошел на убыль, Его Величество вытер слезы обеими ладонями и потребовал внезапно, чтобы Гортензия везла его к статуе Ипполита, деда его. Герцогиня уже готова была заключить, что у монарха "протекла и одновременно поехала крыша",но последовало другое объяснение, более жизнерадостное. У них, видите ли, с Анной-Вероникой идет такая незатейливая игра – один спрячет что– нибудь, другой ищет. Так вот, блюдо с черносливом король спрятал на голове статуи! Если не помочь снохе подсказками, она будет год искать это блюдо злосчастное! Поэтому – вперед! Туда, к дедушке Ипполиту!
Вне себя, ответных слов уже не находя, Гортензия направила туда кресло-каталку с носителем короны. Он был еще заплаканный, но уже повеселевший...
Глава пятая.
| Месяц минус та ночь |
Обидно и жалко, но ту ночь надо вычеркнуть из медового месяца: принц Лариэль даже не приблизился к спальне. |
Решалась судьба Пухоперонии – какие ж тут могут быть супружеские обиды? Она и не позволила себе этого... только носик ее порозовел на минуту-другую, но ни слезинки пролито не было. Она стала советоваться с Терезой: может, и ей не ложиться нынче, чтобы варить мужу кофе? Тереза удивлена была: помилуйте, да разве это Вашего Высочества забота? Разве некому приготовить чашку кофе для принца, ставшего у нас Первым Лицом? Спрошено это было с преувеличенным изумлением, и в тоне камеристки была еле заметная насмешка...
После этого разговора Тереза была отпущена, они пожелали спокойной ночи друг другу. Если б на этом месте была Люси-Не-Поддамся-Не-Проси, Золушка наверняка проговорила бы полночи с ней; а вот с Терезой такой дружбы не получалось...
Один раз она спросила мужа: а нельзя ли перевести Люси на должность камеристки? Чтобы не кто попало был постоянно рядом, а симпатичный тебе человек, с которым тянет поговорить по душам... Просьбой этой принц был озадачен. Этот пустяк вызвал складки у него на переносице... те складки, которые она называла "государственными" (заметила, что именно державные заботы, повалившиеся на мужа, как снег с крыши, вызывают их). Однако, Лариэль обещал ей распорядиться насчет Люси... обещал – и забыл, видимо. Ничего не изменилось. Такой души, чтобы постоянно и доверчиво можно было общаться с ней, не появилось...
Как? – воскликнет кто-нибудь, дочитав до этого места. – А сам Лариэль? Какие-такие подружки нужны двоим, влюбленным столь пылко и беззаветно, как принц и Золушка?!
Вроде бы, так. Но у нее, мы знаем, появилось много забот с больным капризным королем, чьи кости (и чей характер) такими хрупкими оказались, такими ломкими... А у Лариэля были высшие и свехтрудные заботы теперь: он страну спасал! И знал, что передоверить эти спасательные работы просто некому... Молодожены стали не так уж часто видеться в последние дни. И в последние ночи, как видим. Если рассказывать все без малейшей утайки, надо признать: ничего особенно нового Тереза не доложила принцессе в двенадцатом часу...
А не пора ли, между прочим, вспомнить об одном мальчишке, посланном в Пухоперонию с деловой командировкой? Своевременная, знаете ли, мысль... Потому что он уже действовал, этот командированный, если угодно знать! Прочем – действовал сногсшибательно! Что именно он делал – те, которые запасутся терпением, прочтут где-то в середине этой главы...
А пока мы – с главными героями. Они на расстоянии каких-то пустяковых десятков метров друг от друга. Если бегом, это меньше минуты! Но они – врозь.
Золушка пробовала заснуть, ей удалось это очень не скоро. А у нас тем временем есть возможность понаблюдать за принцем в его кабинете. И вообразить на его месте самих себя! Последнее, положа руку на сердце, интересует автора больше всего: вот, допустим, на месте принца Лариэля – он сам, лично... Или друзья его: каждого из близких друзей почему-то охота вообразить на этом месте!.. Или вас, любезный читатель... Впрочем, это жестокое желание: никто из нас, по-моему, не захотел бы оказаться пухоперонским принцем в те ночи и дни...
Над принцем висели охотничьи трофеи, очень давние – головы оленя и медведя, с глазами, остекленевшими, конечно, раз и навсегда, но удачно сделанными: взгляд животных не казался мертвым, в нем жила печаль...
На ковре под мишкиной головой красовалось старинное оружие, а под оленьей – висела круглая мишень для стрельбы из лука, и сам лук висел тут же. Если раскрутить мишень за рукоятку, она могла вращаться, и с изрядной скоростью, и тогда угодить с 30-ти шагов стрелой в центр было уже искусством...
Над высокой спинкой кресла на золотистом гобелене выткан был герб королевства, его символ – гусь.
Что еще? Три диаграммы бросались в глаза. Первая имела заголовок – "НАЛОГИ", вторая – "НИЩЕНСТВО И РАЗБОЙ НА ДОРОГАХ", а третья – "ПОГОЛОВЬЕ ГУСЕЙ". Их недавно повесили. Висевшие прежде - принц порвал в клочья и буквально орал на двух министров, что ему не красивые диаграммы нужны, а честные, абсолютно честные... Вот ему и повесили желаемое: на первых двух картинках кривая стремилась вверх с наглядной крутизной, а на третьей она удрученно сползала книзу. В последнее время Пухоперония теряла и этот единственный козырь: резать и есть свою "фирменную" птицу жители наловчились лучше, чем приумножать ее... Мешало что-то приумножению. Что? Лариэлю полагалось знать это, а он – понятия не имел...
При двух больших канделябрах поблескивали тусклым золотом корешки книг. Их старинная мудрость была к сегодняшним неприятностям безучастна. Увы! Наверное, поэтому принц свирепо "психанул" час назад: не щадя дорогих переплетов, сминая страницы, он расшвырял на столах и на полу десятка полтора томов – они выглядели, как советники, которые болтали под руку всякий вздор, не идущий к делу, и были наказаны за это...
Сейчас Лариэль ходил по просторному этому кабинету из угла в угол... Если б нам удалось подслушать мысли его, – мы узнали бы, что все они – про сделку, про куплю-продажу... Ему навязывали ее! Сам он относится к этой сделке с тоскливым ужасом... Хотя выгоды от нее - признает! Их нельзя не признать! Подразумевался под этой деловой операцией разумный пухоперонский ответ на сватовство со стороны Фармазонии. Сватовство было упорное и слепоглухое к тому факту, что он – женат!
"Нельзя меня купить, я не жеребец, черт возьми! Дело вовсе не в богатстве этой Юлианы – нет, нет и нет! Наоборот: чем богаче приданое обещают за ней, тем тошнее..." – примерно так говорил внутренний голос. Но не один он был, голос этот, в том-то и заусеница! Первому возражал второй:
"Есть вещи куда интереснее богатства... Государственный опыт ее отца, например... которым он мог бы поделиться. Это король- профессионал высокого класса... Рядом с ним мой бедный папа - королек-любитель... разница! Если верить нашему послу, вокруг Балтасара просвещенные люди... Да что там говорить, они вообще в порядке... в большом порядке: у них и фото, и телеграф, и вместо воняющих свечей – лампочки, целые гроздья лампочек, и эти безлошадные кареты... с каким– то внутренним сгоранием. Неизвестно даже, что именно в них сгорает... не овес и не сено, во всяком случае! А чем можем похвастаться мы? У нас – четырнадцать способов приготовления гуся! Анна-Вероника моя – чистый ангел по части терпения и заботы, она добрый гений домашнего очага... Но сейчас не эти, совсем не эти таланты требуются! Проклятье... проклятье... сто миллионов проклятий!.."
Два его внутренних голоса то выкрикивали, то шептали эти последние слова и еще другие, гораздо худшие; они как бы схватывались, сплетались, норовя придушить друг друга!
| Опечатки неопытной принцессы |
Вдруг какие-то шорохи за дверьми заставили Лариэля застыть, а потом распахнуть обе створки энергичным рывком. |
– А я чуть было не возвел напраслину на свою жену! – сказал Лариэль покаянно.– Решил, что это она подслушивает... Вообще-то это было бы удачно, не правда ли, барон? Ловко было бы, своевременно... Если б за руку удалось поймать: ага-а, шпионишь за августейшим мужем?! Хоть какая-то зацепочка... А то ведь не в чем упрекнуть это святое создание, на самом деле святое... Ну не за что обидеть ее, хоть тресни! А обидеть надо, не так ли? Отчего у вас такое лицо, барон, словно вы не вполне меня понимаете? Вы же у нас на редкость понятливы...
Прогнусси сказал, что просто не был готов к такому бурному приему... Принц отвечал, что барон заслуживает еще и не такого! И вернул его – похоже, насильно – к прерванной теме:
– Так надо обидеть, барон? Придется? Беззащитную доверчивость раздавить каблуком? В клочки разнести ее счастье? – про свое-то я уж и не говорю... Вы не прячьте, не прячьте глаза! Не слышу ответа!
Кто-кто, а укороченный матушкой-природой шеф тайной полиции не был мямлей в политике. Но сейчас он именно мямлил, иначе не скажешь:
– Это не по чьей-либо злой воле, мой принц. Обстоятельства...
Принц перебил его, чтобы вцепиться в это последнее слово яростно и даже с каким-то сладострастием:
– Вот-вот, "обстоятельства"! Именно они. Слово отменное... все объясняет, решительно все, – и Лариэль ехидно изобразил такую беседу двоих, Икса с Игреком:
"Помилуйте, сударь, вы же сделали подлость!" – "Что вы, сударь, разве я способен? Это не я, это обстоятельства так неудачно сложились..." – "Ей-Богу? А-а, ну тогда – пардон... Если не по своей охоте свинячить, а в силу обстоятельств – свинство, конечно, отмывается добела!.. Тогда тысяча извинений и позвольте выпить за ваше драгоценное здоровье!" – Так, барон?
Карлик молчал. Сколько бы принц ни сверлил его угольным взором, – отвечать на это было нечего. Мораль, нравственность – барон Прогнусси сроду не имел высоких баллов по этому предмету, он, знаете ли, практик а не трепач и не самоед...
– Так какую же мерзость мы с вами сварганим за эту ночь? Думайте же, сочиняйте, отрабатывайте ваше жалованье и ваш творожок... чтоб вас всех вспучило от него!..
Прямо так и выразилось Первое на сегодняшний день лицо королевства. Однако Сточетыресантиметрастраха не покраснел и не побледнел. Принцу нужно разрядиться? Именно в него, в Прогнусси? Пожалуйста, не жалко, он – воспитанник невзлюбившей его мачехи- природы и секретной службы, не рассчитанной на белые перчатки, они обе вымуштровали его, он не раскиснет, выдюжит...
Вслух же барон сказал, что совсем по другому вопросу потревожил принца в такой час. И что за дверью остался еще господин Бум-Бумажо, не рискнувший войти...
Лариэль отмахнулся: по министру свежих известий он ничуть не соскучился. К черту! И другие вопросы – к черту, пока этот вопрос так бездарно решается и так бессовестно!
– Смотрите, вот я перечитываю "шпаргалку", что вы мне подсунули... Тут же все смехотворно мелочно... притянуто за уши... Ну вот, пункт второй: "Пила чай с прислугой такого-то числа..."
Пункт четвертый: "Грызла семечки"... И все в таком роде... Вот под этим предлогом вы и разведете нас?!
Длинное костистое лицо коротышки изобразило улыбку ("любая лошадь улыбается обаятельней", – подумал Лариэль).
– Это, конечно, мелочи, вы правы. Я бы сказал, опечатки в поведении принцессы, допущенные по неопытности. Только и всего. Но почему вас заботят формальности, мой принц? Предлогом ведь может быть что угодно. Например: что ее семья представила фальшивый пергамент о своем графском достоинстве! Когда это обнаружилось, вас это возмутило, допустим...
– Как?! Это же мы, наоборот, им представили! Я! И вы считаете меня способным на такие фокусы?
– Виноват. Я так рассуждал: ежели бедняжке суждено потерять вас, – потерю графского титула она куда легче перенесет... Но оставим это. Развода не будет вовсе, в нем нет нужды.
Принц не понял: как так? венчанье-то было? И свадьба была... И карлик там был...И еще многие десятки людей... В ответ глаза Прогнусси сделались ледяными, а улыбка на лошадином лице осталась, будто приклеенная; он спросил:
– Кто это засвидетельствует, мой принц? Кто захочет и кто решится вспоминать? Вы знаете таких? Я – нет...
Принц подумал: странно, что меня до сих пор не вырвало от всего этого... Он не заметил, что, не дождавшись приглашения, барон позволил себе сесть – раньше, чем сам Лариэль устало опустился в кресло. Карлик только сидя чувствовал себя ровней другим людям...
– Простите, мой принц, вам покажется, что я отвлекаюсь, но это не так. Знакомо ли вам имя такое или прозвище – Золушка?
– Откуда вы его выкопали?
– Из допроса одного юного злоумышленника, схваченного нами час назад, – отвечал коротышка.
– Да? И кто же он такой?
| Сон кашмарней действительности? Вряд ли... |
Барон рассказал: схвачен мальчик, ему лет 13-14, не больше. Ребенок, словом. Шалун. Но брать его пришлось силами не двух, не четырех, даже не десяти солдат... Стыдно выговорить: насилу оказалось достаточно для этой мелкой полицейской акции... принц не поверит, пожалуй! – целого эскадрона! Да и то случайность помогла: обманом удалось выбить у малолетнего негодяя из рук инструмент его дьявольских проделок! А до этой минуты неведомая сила отбрасывала солдат от озорника! |
– С виду, знаете, ничего особенного... ну факир из рыночного балагана, ну гипнотизер – решили мы все. Но его техника! Это надо видеть, мой принц...
И тут голос самой Золушки заставил вздрогнуть обоих – плачущий, срывающийся от страха и горя, он приближался быстро, поскольку она бежала: "Лариэль!.. Лариэль!.. Я боюсь, Лариэль! Где ты?!"
Золушка вбежала в ночной рубашке, прижалась к нему. Она умо- ляла сделать что-нибудь... поскольку она не может, не в силах проснуться... Вот знает уже, что не спит, что на ногах, а сон ее - жуткий, беспощадный – не обрывается никак, продолжает сниться! Ужасно сбивчиво она объясняла это, как заболевшая семилетняя девочка... Никаких карликов при этом не замечала.
Лариэль стал убеждать ее: наяву все нормально... спокойно все... это его кабинет, а это он сам, а на столе – его работа, которая, увы, разлучает их... Тут неловкость была: огромный письменный стол был чист и пуст, а принцу казалось важным, чтобы она видела его погруженным в деловые бумаги – и он предъявил какие-то, как пассажир предъявляет билет, как школьник – дневник... И – чуть было не сунул ей окаянную баронову шпаргалку с перечнем ее ошибок, промахов, "опечаток"... Поспешил скомкать эту бумагу, швырнуть под стол.
– Ну что ты, глупенькая? – уговаривал он нежно. – Что еще за сон такой? Пострашнее действительности? Полно, не верится. Не дрожи, теперь-то чего дрожать? Ты со мной, и я с тобой...
Коротышке-барону он подал знак удалиться – и тот, деликатно улыбаясь, повиновался. Однако потом принц ловил себя на противном ощущении – что злодей-малютка ушел только с глаз долой, а в кабинете как-то сумел остаться. Запах ли это был, барону присущий, или что-то еще, – но не весь он, похоже, ушел... На дрожащую жену Лариэль накинул свою теплую охотничью куртку, и мало-помалу этот ее "колотун" утих. Теперь можно было полюбопытствовать, что же такое показывали в этом ее кошмарном сне...
Золушка стала припоминать:
– Сначала была толпа... горожане на площади. Потом – все больше девушки, кругом девушки... 18 900... или сколько их было там? Они узнали меня – и мне бы живой не выбраться, но тут ударили погребальные колокола (типун мне на язык). Толпа напирает... мне не хватает сил протолкаться... И видно твое лицо – ты на возвышении на каком– то. Лицо у тебя жутко красивое было! Но бледное... и, знаешь, совсем чужое. Ты вообще весь был как статуя! И чем ближе я к тебе, тем труднее: не пускают передние! И вдруг один в полумаске тихонько так говорит: "Ну вот, детка, ты и поиграла в принцессу..."
| Глазами негодяев | Она замолчала, и довольно надолго. Принц напрасно ее торопил, просил вспомнить дальше... Куталась Золушка в куртку и даже как будто нюхала ее меховой воротник. Потом сказала, что сон этот продолжался еще и наяву. |
"Вот, детка, ты и поиграла в принцессу. Может, и не наигралась еще, а пора кончать. Какая из тебя принцесса, сама посуди? Лакеи – и те улыбаются, на тебя глядя, а на государственных людей ты действуешь, как лимон без сахара. Принц и сам это понимает уже,только сознаться не может: папашина мягкотелость мешает да благородство, вычитанное из книжек. Помоги, детка, верни ему венчальное колечко вместе с его клятвами верности. На любовь не надейся, не стегай мертвую лошадь. Девочка ты сообразительная, не станешь дожидаться яда или кинжала или серной кислоты – не надо этого, фу! Сделай, милая, так, чтобы не пришлось оплакивать твою нежную цветущую молодость. Твои доброжелатели".
Вот тут принц Лариэль рассвирепел! Особенно взбесили его некоторые выражения – например, "благородство, вычитанное из книжек"... "на любовь не надейся, не стегай мертвую лошадь"... Негодяям казалось, что в его душе – они как у себя дома!
В общем, если пять минут тому назад трясло принцессу, то теперь знобило его. Он спросил, кривя рот: ну,теперь ты видишь, в каком змеюшнике оказалась? И получил ответ: для нее главное, что она оказалась с ним ! Теперь дело оборачивалось так, будто Золушка утешает его! Их любовь – никакая не мертвая лошадь, она живее всех этих "доброжелателей", ей вполне по силам унести двух любящих туда, где злодеи нипочем их не достанут!
Лариэлю не передавалась почему-то такая ее жизнерадостная вера. Уходить, уезжать отсюда? Куда ? В один из воздушных замков? В райский шалаш на двоих?... Со слов отца Лариэль знал, что у Золушки прямо-таки талант – прелестно рассказывать сказки... Так чем отвечать на письмецо, которое держал он в руках? Сказочкой о бессмертной любви? Возвышенным стихотворением?
– Скажи: ведь они все врут про тебя?.. Или кое в чем нет? - услышал Лариэль ее вопрос, заданный очень осторожно. И отвечал, усевшись на подлокотник кресла, как в седло:
– Про меня – врут, да. А про тебя? Вот представь: не пишут тебе все это, а в глаза говорят... Как бы ты им ответила?
– Никак... Зачем я стану им отвечать? Или я должна нравиться негодяям?
Нельзя было не отметить: гордо сказано... просто по- королевски. А все-таки, считал принц, стоит полюбопытствовать: что имеют в виду канальи-"доброжелатели"? Как она выглядит, если смотреть их глазами ? – И Лариэль нагнулся за "шпаргалкой" барона– карлика, валявшейся под столом, достал ее и разгладил.
– Гляди-ка... третьего дня тебя видели на птичьем дворе: ни свет ни заря тебе понадобилось собирать яйца из-под наседок! Зачем это? Может, птичниц наших уволить – принцесса сама с их работой справится?
Теперь дальше... Ты знаешь, я стою за хорошее, приветливое обращение с прислугой, люблю пошутить с ней и прочее. Но если не пересаливать! Говорят, ты просто-напросто подружилась со служанкой по имени Люси! Извини, но это странно и раздражает придворных...
И еще. Тетка Гортензия заглянула на урок, который тебе давали, и в ужасе увидела, что ты и твой учитель грызете семечки! Что это за урок был? Игры на арфе?
– Нет. Придворного этикета урок, – сказала Золушка, страдая от своих ошибок, но все еще не считая их такими уж грубыми. – А в чем дело? Тыквенные семечки, каленые... Учитель щелкал и нахваливал!
Принц вздохнул и продолжал: ее самоотверженный уход за папой, разумеется, ничего, кроме благодарности, вызвать не может. Но палку перегнуть и в милосердии можно. Кое-кто говорит, что она уже чуть ли не клистиры ему ставит!
– Пока нет, нужды не было, – спокойно отвечала Золушка (только потухшим каким-то голосом). – А если понадобится – почему бы и не сделать, ничего тут смешного нет: старички, когда болеют, - те же дети беспомощные.
Лариэль молча походил по кабинету и подвел итог: в чем правы те, чьими глазами он сейчас попробовал увидеть ее? На ее лбу прямо-таки проступает клеймо такое: ЗОЛУШКА! Та самая Золушка, которую решено было забыть!
Странное дело: она не потупилась, не отвела глаза. Она сказала:
– Кем решено? Нет, я всегда помню, кто я... По-моему, это ты сейчас забываешь, что ты принц: настоящие принцы – я просто уверена! – никогда не смотрят на вещи глазами негодяев. Им противно это делать и незачем!
Произнося это, она почему-то обнаружила вдруг, что ей мало воздуха... Нет, кабинет был большой, и одно окно – нараспашку... В чем же дело? Скучный какой-то был воздух. Серый.
– Ах, вот как ты заговорила со мной... – пробормотал принц, пораженный ее дерзостью.– Ишь ты! "Настоящие принцы... никогда не смотрят..." А скольких ты видела принцев-то? Всякий принц – он политик, как это ни грустно... Он не может глядеть на мир глазами девочек из лесничества! Хочет, допустим, – а права такого нет! Вот сейчас ночь, да? И мы вдвоем, думаешь? Как бы не так! Я и сейчас не имею права на личную жизнь меня там министр ждет!
| Юный шутник и его приятельница |
Тут чей-то голос поправку внес: "Два!" Оказывается, не один министр, а два ожидали – и оба возникли так, словно торчали за шторой или за диваном в скрюченным виде. У второго из них, у Бум-Бумажо, был совершенно несчастный вид. Его правая рука висела, как перебитая, обвязанная широким алым платком в горошек. |
– А эту бумагу случайно не вы писали? – спросила она про послание, подброшенное в спальню. – Если да – говорите смело... принц во многом согласен с ней... вам ничего не будет.
Барон взял сиреневую бумагу, просмотрел и отказался: нет, это решительно не его стиль. Но он мог бы дознаться, если Ее Высочеству угодно, кем это писалось, кем подбрасывалось...
Принцесса сказала, что никаких дознаний ей не угодно. И что с этого часа она просит не звать ее "Высочеством", – ее нормальное имя – Золушка... На лошадином лице Прогнусси отразилось довольство этим заявлением; он что-то пометил в крохотном своем блокноте...
А Бум-Бумажо, весь взмокший и жалкий, объявил: он, написавший сотни статей – причем в самых разнообразных стилях! – он больше не в силах написать ни строчки... так что он – вне подозрений! У него не было терпения ждать их расспросов о причине такой внезапной профессиональной инвалидности, он сам предъявил эту причину: вытащил из перевязи руку. Руку... которая оказалась нечеловеческой! То была гусиная лапа, самая натуральная. Красная перепончатая гусиная лапа!
Оба Их Высочества ахнули – если не вслух, то про себя уж точно...
– И это только начало злодейства, которое чуть было не произошло, – меня всего хотели превратить в гуся! – со своей мукой и жалобой Бум-Бумажо взывал почему-то именно к принцессе...
Тут-то барон и вставил эффектно: этот ужас сотворил юнец- чужестранец, тот, о котором был его прерванный рассказ... мальчишка, задержанный с великим трудом...И заявляющий теперь одно: что он шел сюда – к Золушке и говорить желает только с ней!
– Что-то я смутно сейчас все понимаю... – призналась она. - Кто ко мне шел?
– Этот изувер! Этот посланец самого дьявола! – выкрикнул Бум-Бумажо со слезами.
Принц решил, что в такой ситуации ему не годится быть только защитником своей благоверной, ему надо быть Главой государства, Первым лицом его, а значит – объективным судьей. И он обратился к супруге так:
– Объясните нам, милая Анна-Вероника... или Золушка – это как вам больше теперь нравится... Объясните, откуда у вас такие интересные приятели. Видите, господа: я околдован был не просто девочкой из лесничества. Я был околдован тайной! Но это так, к слову...
Дорогая, сосредоточьтесь, пожалуйста... у вас отсутствующие глаза... а человек, между прочим, чуть не стал гусем! Но, господа, – по порядку! Он что – ни с того ни с сего взмахнул этой своей чудо-палочкой перед носом господина Бум-Бумажо?
Золушка не сводила глаз – сияющих глаз, нужно добавить, – с предмета, который сейчас был у Лариэля в руках.
– Я знаю эту вещь! И знаю, чья она! Да, он мой друг, этот мальчик...Жан-Поль... А его госпожа – она тоже тут? Госпожа Фея?
– Фея? – живо переспросил принц.– Так он был не один?
– Один, совершенно один, – отвечал барон Прогнусси, -. Но как удачно, что принцесса знакома и с его начальством...
– Итак?.. – Лариэль всем корпусом повернулся к ней.
| Вооружена и опасна! |
– Лариэль, да скажите вы им, чтоб они оставили эти слова - "принцесса", "Высочество"... – потребовала Золушка. – Об ясните, что я грызу семечки, дружу с Люси, ставлю клистиры, не разбираюсь в политике... Или нет, вы проще скажите: что я – ухожу... |
Она молчала. Она бы сразу направилась к двери, но нужно было узнать сперва про Жан-Поля... И смущала ночная сорочка - единственное, что оставалось на ней, если скинуть сейчас охотничью куртку Лариэля...
Тем временем к ней взывал Бум-Бумажо, чуть ли не припадая к ее ночным туфлям. Умолял: ее дружок должен понять, что это жестоко - оставлять министра с гусиной лапой... Что без человеческих пальцев ему не жить, не взять пера... Он называл Золушку "очаровательной", "божественной"... он извинялся за резкие слова в адрес шалунишки- волшебника... теперь-то он понял: это всего лишь озорство... Только, право же, недоброе...
Барон Прогнусси не соглашался считать это озорством. Он требовал! Юный шутник обязан вернуть двум гвардейцам их ружья, превращенные в две ветки жасмина! Боевое оружие – не чета таким пустякам, как жасмин... это оскорбление армии, урон казне... и вообще произвол, безобразие! И еще: когда в его потасовку с гвардейцами вмешались господа Коверни и Посуле, – мальчишка, по словам барона, ...склеил их! Спинами. Как сиамских близнецов! Два члена Совета Короны и в общем приличных человека оказались в смешном, унизительном, невозможном положении! Юный гость принцессы обязан немедленно прекратить этот фарс.
Принц согласился: да, это уже черт знает что... И спросил Золушку: почему ее приятель ведет себя здесь по-неприятельски?
Она сказала:
– Не знаю я, могу только гадать... Если я правильно догадалась – он защищает меня! Затем и пришел, наверное... А где он меня ждет?
Барон отвечал: такой озорник не может, само собой понятно, ждать ее у фонтана, или у театра или, например, в кондитерской... Его место, как легко догадаться, не столь удобно и приятно, но он же сам как бы напрашивался...
Язык карлика Прогнусси еще произносил что-то, а в глазах его заерзал, запрыгал, заметался страх! И в глазах Лариэля тоже... И во взгляде Бум-Бумажо...
Все они как-то сморщились – не только лицами, но, казалось, еще и телами. Дело в том, что принцесса Анна-Вероника, она же - Золушка была сейчас такой, какой не видели ее никогда: она выпрямилась, во взгляде и на щеках ее горел гнев и в руках ее была та самая палочка, запросто отобранная у принца минуту назад, а сейчас – засветившаяся вдруг, словно была прозрачной, а внутри ее пустили грозный электрический ток! Золушка скомандовала:
– А ну, отпустите мальчишку! Сию же минуту! Не то я сама превращу вас в гусей... Всех!
Трое мужчин оцепенели перед ней.
Самое печальное – что принц окончательно терял лицо в эти минуты. Заговорил жалкой скороговоркой, какой ни разу от него не слышали прежде. Не сводя глаз с палочки, напоминал о любви... Удивлялся: куда ж она вся испарилась, любовь-то? У него-то – нет, по– прежнему на своем месте... отчего ж у нее-то прошла?
Ну хорошо, он на любви уж не настаивает... но тогда пусть вспомнит о милосердии хотя бы! Принц, обращенный в гуся?! Но за что?! Несправедливо же – объединять его с врагами ее, с гонителями! Они из разного теста...
Она сняла с себя Лариэлеву куртку. Аккуратно повесила на спинку стула. Ночная сорочка больше не причиняла неловкости. Возможно, потому, что эти трое – они уже не казались мужчинами... в достаточной мере. Ее спрашивали, куда же она теперь – она отвечала: на воздух... Она отмахнулась от предложения барона вызвать сюда начальника тюрьмы, чтобы отдать ему новые распоряжения насчет юного арестанта. "Не стоит... мы уж без вас, сами..." Она пошла и по коридору вслед ей летели обещания Бум-Бумажо прославить ее в стихах, если она освободит его от гусиной лапы...
На воздух! Ей давно требовался приток воздуха... Значит, превращение в птицу – безжалостный фокус, немилосердный, да? А муж, родной человек, обернувшийся вдруг чужим, фальшивым, унизительно слабым – это как?
Почему-то вспомнилась великолепная красавица-лошадь по имени Карма и то, как принц ставил ее на дыбы, как брал на ней высокие препятствия... Золушка любила угощать Карму сахаром... Ох, не стоило Лариэлю седлать ее в ближайшие дни – Карма сбросит его! Подобно тому, как будущее видят иногда цыганки, профессиональные предсказательницы, Золушка просто увидела вдруг, как беспомощно летит он из седла в раскисшую глину! Может, предупредить его? Нет, пусть, пусть лошадка его проучит...
| Газы | Молчание после ее ухода было долгим. Барон Прогнусси испытывал неожиданные капризы со стороны своего кишечника: его пучило газами. Борясь с этим явлением он спросил: |
Принц глухо отвечал, что нет, не начнет.
– Вы так уверены? Почему, позвольте спросить?
– Потому что она любит меня, барон. Любит... Напомнить вам, что это такое? Это когда... Впрочем, смешно: один удавленник объясняет другому, как дышится горным воздухом... Не объяснит!
Опять помолчали. Барон страдал из-за своих газов.
– Так какая ваша задача теперь? – спросил Лариэль. - Отправляться ко двору Балтасара и просить руки его доченьки? Бумажо, готовы мои любовные письма к ней?
Оказалось, эти письма готовы. Оказалось, сочиняли их "лучшие мастера пухоперонской прозы". Еще оказалось, что сам Бум-Бумажо никак не достанет их из внутреннего кармана фрака – проклятая гусиная лапа была неуклюжа и неухватиста; пришлось барону лезть в его карман, отчего Бумажо испытал щекотку и приступ придурковатой смешливости... Но вот письма к принцессе Юлиане легли на стол.
Читать их прямо сейчас Лариэль не стал. Он подумал с отвращением, что надо будет из этой пачки выбирать не самые пошлые, не самые стыдные фразы, а потом еще все это придется переписывать собственной рукой, как-то между собой соединяя... В самом деле: не могут же там быть разные почерки! Мелькнула нелепая мысль: а будь у меня такая вот гусиная, перепончатая правая кисть – не пришлось бы...
Вслух принц сказал своим министрам, что с политикой на сегодня покончено; теперь у него к ним просьба личного характера: раскрутить ту круглую мишень, – ему пострелять охота... Поскольку Бума-Бумажо от всего отлынивал, указывая на свою позорную красную лапу, – крутил мишень барон; нельзя же было сказать: у меня газы... Принц Лариэль натянул тетиву своего лука и скомандовал:
– Раскрутили? А теперь отбегайте... от греха подальше! Оба! Кыш! – и стрела его полетела, как ни странно, в дверь, которая еле- еле успела закрыться за министрами! А мишень вращалась, выходит, зря...
Давая деру, карлик не все свои газы смог удержать при себе, очень это чувствовалось!..
| Погодите веселиться | Нужно предупредить: ошибся бы тот, кто стал бы вслух зубоскалить над бароном по этой причине. Жестоко ошибся бы! И вот почему: в Пухоперонии знали сотни - нет, тысячи таких случаев, когда от двух-трех слов укороченного барона у людей случались гораздо худшие неприятности. И с тем же кишечником, и с другими жизненно важными органами... С головой, например. С ней – чаще всего: ее просто отделяли от туловища. |
Глава шестая.
Клетку в подземелье дворца, отведенную ученику Феи, делали, наверное, в расчете на крупных хищников. Прутья были такие, что и могучая львица, и бенгальский тигр, и даже тупой носорог – все сообразили бы в первый же день: шансов выбраться отсюда – ни одного! Два тугих засова на дверце подтверждали это. Но засовам не доверили охрану малолетнего узника: добавили замок весом в полпуда...
Упал ли духом в этой клетке Жан-Поль? Выглядел он не так, как при Госпоже, – стал бледным, большеглазым, повзрослевшим... С первого взгляда Фея оценила бы: это он сердцем повзрослел, недетские испытания оно проходит...
Поверите ли? В этом одиночном заключении Жан-Поль был занят припоминанием каких-то сведений из геометрии! Об этом говорил чертеж на стене, сделанный куском угля; чертеж сопровождался двумя строчками формул:
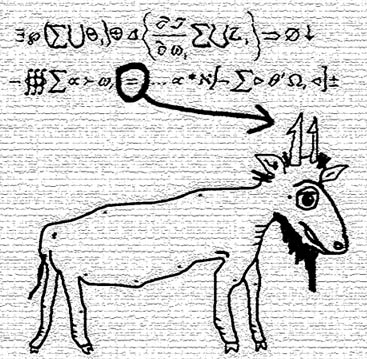
Что-то мучительно не нравилось, чего-то очень не хватало юному чародею в его расчетах! От равенства в середине формулы шла стрелка к картинке из другой совсем науки – из зоологии! Да-да, это не корявая большая цифра 11, как могло показаться, это – рога ! А ниже – морда и бородка самого обыкновенного козла... Просим убедиться! Такой вот "автопортретик" подносил самому себе Жан-Поль за свои успехи волшебно-геометрические... Такой силы достигли здесь творческие сомнения и самокритика!
Как раз в эти трудные минуты появилась в узилище Золушка!
Как же счастлив был пленник видеть ее! Как просиял! Он выкрикнул что-то нечленораздельное...*
Жан-Поль сиял бы, явись она и с пустыми руками, сама по себе. Но она шла не только увидеть его, а еще – подкормить и поддержать: из ее корзинки торчала бутылка с морсом, а ему давно и сильно хотелось пить... Но скажем снова: она могла не приносить ничего, он все равно был бы в восторге! Через левую ее руку, свободную от корзинки, был перекинут плащ...
А знал бы пленник, что под плащом! Там был спрятан футляр не от флейты! О, эта девушка знала, с чем надо идти в тюрьму!.. Но как палочка попала к ней? Наверное, хитрость и ловкость понадобились, чтобы завладеть ею... О, если б такую гениальную предусмотрительность обнаружить, когда она замуж шла...
С первых слов Золушка стала корить Жан-Поля за неблагоразумие. Ну зачем, ну ради чего он так буйно вел себя? Кол ему за поведение... Совсем, что называется, "без царя в голове"... Получается, он сам упрятал себя в эту клетку!
Жан-Поль отмалчивался, не спорил. Он смутился от счастья видеть ее и от собственной блаженной улыбки от уха до уха, которую не умел притушить. Нельзя ему быть настолько открытым! Нельзя, чтобы его чувства читались, как букварь для "горшочников", черт побери!..
Поэтому он деловито поинтересовался первым делом – бутылью с морсом, а потом – вообще содержимым корзины. Пригвоздил к этой корзине взгляд, чтобы опять не расплыться в блаженстве, когда глаза их встретятся... Пока он пил, Золушка перечисляла, что у нее там еще:
– Пирог с гусятиной и капустой. Пончики с черникой. Сливы и персики, персиков – три штуки, а слив – почти фунт... Еще семечек стакан... Голодный, да? Они не кормят тебя совсем? Как они с тобой обращаются?
Он не ответил. Перечисляя, она не назвала важнейшую вещь. Оглянулся Жан-Поль на свои формулы и вздохнул. Всю Теорию Пространства Сфер он отдал бы сейчас за самое обыкновенное яблоко... Да, представьте: яблоко было увязано с теми формулами крепко-накрепко. Так говорила Книга, оставшаяся там, у Госпожи, а здесь – мучительно припоминаемая...
Только зря он вздыхал раньше времени! Как только он пробормотал безнадежно: "А яблочко?", – оно было тут же извлечено из корзины и просунуто между прутьями его клетки. Мальчик завопил, что она - гений, схватил не только яблоко, но и руку ее – и покрыл благодар ными поцелуями!
Потом, успокоив немного свою радость и прыть, Жан-Поль стал говорить о трудном, о главном: выходит, и волшебники ошибаются иногда... нельзя было им уходить без проверки: счастье устроили они для Золушки или что-то другое...
– Плохо мы с Госпожой удружили тебе тогда, не надо было ездить на этот бал, – произнес мальчик. И в первый раз за свидание заглянул ей в глаза прямо и близко; и глаза ее вновь подтвердили свое детское свойство: они были родниково чисты! Они были прекрасны без всяких оговорок! Но не согласилась она принять такие его слова про бал - они на что-то самое дорогое замахивались:
– Здрасьте! Высказался... Да лучше этого у меня никогда ничего не было в жизни...
– Ты и теперь так думаешь? Ну и ну... Пожалуйста. Все равно ведь не переиграешь, – сказал ученик Феи.
Он посмотрел на нее испытующе. Но при всей красноречивости ее глаз не понял: думает она переигрывать назад или нет... Потом спросил:
– Слушай-ка: у твоего принца есть книги по геометрии?
Но тут вошел офицер стражи. Шабаш! Похоже, опоздали они потолковать о тайной пользе тюремной геометрии, не говоря уж о вещах еще большей важности...
| Шпоры бантиком | – Беседуйте, мадемуазель, беседуйте, – галантно позволил офицер. (Мадемуазель, а не Ваше Высочество! – сразу отметил Жан-Поль). Офицер был тот самый, что впускал ее сюда... Тогда он рассыпался в любезностях, а теперь стал суше и строже: знал уже, наверное, что принцесса перед ним бывшая . – Однако мне приказано свидание контролировать, быть начеку. У начальства, я так понял, какие-то опасения... |
– А вы заприте меня в эту же клетку. И нечего будет опасаться.
– Таких указаний не имею пока, – отвечал он. – Знаю только, что надо держать с вами ухо востро.
– Ухо только? – спросил Жан-Поль. – А шпагу?
– Что-что?
– Я говорю, что одно лишь "вострое ухо" не поможет: желательны еще "вострый" ум и такая же шпага...
– Моя шпага – тупая?! – у офицера был оскорбленный вид. А Жан- Поль сказал Золушке негромко, но тот услышал: "гляди – насчет ума он не обижается..."
Дело оборачивалось неважно. Офицер уже злился по-настоящему:
– Тупые мы? Тогда по-тупому: свидание окончено! Мадемуазель, пожалуйте на выход! Шпага моя... тупая, видите ли!
Как раз в этот миг посетительница просунула узнику ту вещь, которую пронесла под плащом.
– Мадемуазель... это неслыханно! – возмутился офицер-тюремщик. – Прямо на моих глазах?!
– А на глазах – честнее же, – отвечала Золушка. – Это его вещь, она должна быть с ним...
Чтоб защитить честь своего оружия и порядок заодно, – офицер стал обнажать шпагу. Только не сразу удалось ему это – с большим трудом, с пыхтением и натугой: там что-то заело в ножнах, обнажаться шпага не хотела. А когда все-таки поддалась, – стало ясно, что лучше бы не поддавалась: шпага была на себя непохожа, она бессильно гнулась, как пластилиновая, не выказывая ни малейшей упругости, она имела нелепые узлы, а на конце – какую-то дурацкую кисточку!
– Тысяча чертей! Это ты сделал?! Ты, шельма? А ты – его сообщница?!
– Будешь ругаться при даме и тыкать ей – я тебе две шпоры твои свяжу одним бантиком, – пообещал ученик Феи. – Таким, что не развяжут ни в одной кузнице... Что там у тебя на эполетах? Пухоперонский гусь? А хочешь, я сделаю, чтобы хорек там был! А могу и тебя самого в хорька переделать!
Офицер поверил во все, что услышал. Он скис, пожелтел и смотрел на юного узника по-новому:
– Все можешь? Да?
Жан-Поль сказал честно, что нет, не все; две вещи не по силам ему: не может он пить молоко с пенками, это – раз, и подолгу говорить с дураками, это – два. После этого заявления мальчик отпустил офицера, не сделав ему никакого вреда. Просто сказал, разглядывая заботливо и нежно вернувшуюся к нему палочку:
– Ступай, приятель, мешаешь. Я потом вызову, – когда мою гостью надо будет проводить .
Офицер не мигал, почти не дышал, в голове у него было пусто и звенело... Умственные задачки по службе случались у них считанные разы, чаще всего они сводились к одной: кто в данный момент главнее, чьи приказы исполнять. Вот и сейчас он смекнул: этот малолетка в клетке главнее любого начальства во дворце! Очень уж не хотелось в хорька превращаться!.. Шпоры звякнули при чеканном повороте, и офицер строевым шагом удалился прочь.
А Жан-Поль сказал Золушке тихо, смущенно:
– Спасибо тебе... за инструмент.
– Пустяки. А ты изменился за это время. Возмужал очень.
– Да? Приятно... Но все равно – до принца мне далеко, а?
– Его я ни с кем не сравниваю...
| И еще одна принцесса сбежала! |
Она отошла от клетки. Жан-Поль готов был треснуть самого себя за неосторожные свои слова. Чтобы скрыть
замешательство, он произнес: – Плохо дело... Вот и с Юлианой что-то похожее творилось... На двадцать пять фунтов похудела... Знаешь, кто это – Юлиана? Золушка знала. |
– Как это не видел? Мы же там были с Госпожой, помогали ей! Она страдала по музыканту одному, его имя Рамон, его песенки вся Фармазония распевает... А ты решила, что она... Да нет же! Лариэль твой и с доплатой не нужен Юлиане! Это самодурство Балтасара, папаши ее. Гнали из девушки любовь, будто это глисты... Рамона ее упекли в изгнание... А чего добились? Сбежала к нему принцесса – ни на каком авто не догонишь! Мы с Госпожой сделали так, чтобы вся стража безостановочно танцевала румбу – семь часов подряд! Чтобы Юлиана успела отъехать подальше... Теперь они уже за границей, а король Балтасар кусает локти себе!..
Ну и дела, – не вдруг усвоила смысл этого рассказа наша героиня. И пересказала себе своими словами, чтобы ничего не упустить. – Та, которую прочат на ее место, любит другого, стало быть. И сбежала к этому другому! И ее всемогущие друзья участвовали в этом, помогали ей... А что же теперь будет с Лариэлем? С его планами (или кто их там составлял для него)?
– Слушай-ка... а Лариэль ничего этого не знает еще?
– Конечно, нет! О, как ему натянут нос! Любо-дорого поглядеть!
– Ты злой, мальчишка, да? Злой, злой...
– Он же предатель, как ты можешь за него заступаться?
– Неправда. Он сам страдает!
"Ах, страдает он! – про себя усмехнулся Жан-Поль. – По какому же такому предмету, интересно? Летит бедный доверчивый мотылек на свечу фармазонскую!.. Так ведь не сам он, не сердце его сгорит, а только планы его? Так – поделом!" – про себя подвел итог юный заключенный. А вслух спросил:
– Что же с ним стряслось, а? Разлюбил? У взрослых это бывает так скоро?
У его ненаглядной было такое выражение лица, будто осуждали ее, а не принца. Будто она – ветренница, пойманная на измене и лжи!
– Это я у тебя хотела спросить: вдруг, думаю, ты читаешь в чужих сердцах?
| Чистый способ | Тут она коснулась самого, может быть, больного вопроса. – Пробую, да...– с трудом сказал малолетний узник. – Но сама же видишь, – с ошибками. С такими грубыми ошибками, что я решил: незачем мне людям глаза мозолить, вертеть перед их носом этой тросточкой! |
– Какой же выход?
– Выход? С такой профессией, как у меня? Думаю, затаиться надо лет на пятьдесят-семьдесят... пока не присмотрюсь хорошенько к людским сердцам, не научусь читать в них свободно и без ошибок... Я хочу сказать... в общем, надо вычитывать в них не то, что мне хочется, а то, что там на самом деле есть. Понимаешь? Тогда только можно будет явиться и исполнить чье-то желание. Да и то – семь раз отмерить сперва... А пока, Золушка, исчезаю я. Так-то.
Почему Жан-Поль так странно говорит, о чем? Если о побеге – она сочувствует, она – за, надо только понять: как это технически... Уж больно толстые тут прутья...
– Конечно, давно тебе пора удирать. А как? Превратишь эту решетку в лапшу? Сможешь?
Мальчик объяснил: отсюда уйти – никакой не фокус, особенно теперь, когда он снова вооружен! Нет, не о том речь... Он думает о том, чтобы исчезнуть совсем и отовсюду! Прочь из этого измерения.
Для этого он наполовину вспомнил, а наполовину вывел сам гиперболическую геометрию. Золушка слушала так, будто он перешел на арабский язык.
– Да, вывел... Это не так уж трудно. Ну, просто с аксиоматикой Эвклида влезаешь совсем в другую геометрию. Берешь пятый постулат...
– Погоди, я же и первого не знаю... Объясни нормально: что значит "исчезнуть совсем"? Это шутка такая?
Жан-Поль терпеливо растолковывал: это значит – стать невидимым. Это самый чистый способ. Берешь гиперболическое пространство, в котором, как легко видеть, через две различные точки проходит единственная гипербола. Не понимаешь? Ну, считай, просто кривулька... Ей должен быть ортогонален луч солнца...
(Золушку особенно поразили слова: "как легко видеть").
– Ну, солнца здесь нет – сойдет и полоска света из-под двери. На пересечении той кривульки и этой полоски ставишь яблоко – и оно начинает исчезать на глазах...
– Отчего? – вставила вопрос Золушка. – Ты съедаешь его?
Жан-Поль сказал, что потом – да, но тает яблоко еще до первого укуса, в том-то вся и штука, что до... В Книге волшебников сказано: "Перед началом процедуры плод, разумеется, должен быть основательно заколдован". Так что хрустишь уже невидимым яблочком, и сам делаешься таким же. Прозрачным, как воздух!
И он размечтался: сможет, например, войти в покои ее принца... крепенько – чтоб слезы брызнули! – взять его за нос и сказать пару ласковых... Но она тут же вскрикнула, что это глупо, что она просит его не делать таких вещей! У нее, например, совершенно другие мысли по поводу его изобретения!..
| Без обратного билета | Сперва она пробовала отговорить мальчишку.
Но он был грустен и тверд. Он решил: только так и будет... Самый чистый способ. (О чем толковать, думал он, какие питать надежды, если ей больно от всякого резкого слова про принца-предателя... от угрозы всего лишь нос ему защемить!) |
Нет-нет, ей надо вот именно "в другое измерение" – какая радость, что он знает дорогу туда! И дело не только в нынешней ее бесприютности, не только в стыде (стыд был и за Лариэля тоже, не за себя одну...). Да, Лариэль не оказался принцем с головы до ног... И все-таки, все-таки... (ужасно трудно было Золушке объяснять это!) Если договоривать до конца, она завидует мертвой голове оленя в кабинете принца: этот олень может видеть, как Лариэль ходит там, как читает и пишет, как задумывается... Впрочем, знать об этом никому не следует...
Суть же, голая и простая суть – в том, что она умоляет Жан- Поля взять ее с собой!
Он растерялся. Хотя и допускал он и верил, что причины у нее уважительные, но... Нет, дело обстояло вовсе не так просто, как она вообразила себе.
Главная трудность – он знал, как перескочить в то измерение, но решительно не знал обратной дороги... Забыл, начисто забыл ту формулу, которая позволяла вернуть себе видимый образ... Помнил главу из Книги, где производился вывод злосчастной этой формулы... но не смысл, к сожалению, не логику помнил, а как она выглядела, та глава. Она вся была из сплошных уравнений... Вывод той формулы занимал 21 (двадцать одну) страницу! Без понятия о том, как она выводится, можно было умять целый мешок яблок, хоть обычных, хоть основательно заколдованных, но с места не сдвинуться, остаться там, не имея даже шансов вернуться сюда и снова стать таким, как все нормальные люди... Так было ли у Жан-Поля право брать с собой Золушку без билета в обратную сторону, без ясной надежды приобрести такой билет?
– Ты вспомнишь. Ты выведешь. Ты способный! – повторяла она, не отпуская его руку и сжимая его пальцы на втором яблоке, которое всучила ему насильно.
Он способный! Откуда ей знать? Сознаваться ли сейчас, что у него вечная "тройка" по геометрии? Если б не это, – у него уже был бы диплом; он мог бы уже полгода носить звание настоящего, дипломированного чародея! Но с "тройками" волшебникам не выдают диплома, и он – все еще стажер, ученик, как бы персона, фигуры не имеющая, на птичьих правах в своей профессии, ни то ни се... Вывести самому – то есть родить из головы нескончаемую паучью цепь формул – страшненьких, двух– и трехэтажных! – цепь, растянутую там на 21 страницу?! Да легче, наверно, квадратуру круга построить с с циркулем и линейкой, хотя он и не пробовал. А еще легче представить себе, что они оба так и останутся невидимками навсегда... Сам Жан-Поль – пусть, ладно, но и Золушка тоже!
И он отказывался наотрез. Упирался, сколько мог. Золушка взяла его за воротник курточки и притянула к самой решетке. Вплотную приблизила к его лицу свое – лучистое, заплаканное, несравненное..
– Не запугивай ни меня, ни себя! – сказала она тихо. – Я прошу, я очень тебя прошу... Ну придвинься еще чуток... – Она поцеловала Жан-Поля! – Я вот как тебя прошу!
Вы смогли бы устоять на его месте? Он не сумел.
– Ну что, что ты наделала... зачем?! Теперь у меня вся геометрия в голове раскиснет... – пробормотал Жан-Поль, но слова и самый тон означали капитуляцию. Теперь и ей предстояло угощаться заколдованным яблоком, которое начнет исчезать еще до первого укуса... а за ним и она сама...
* * *
| Перед тем, как растаять |
Не будем рассказывать, как это все проделывалось, из каких моментов состояла эта Волшебно-геометрическая процедура. Дело в том, что перед Гиперболическим Пространством сам автор чувствует себя обыкновеннейшим бараном перед новенькими воротами... Хоть убейте, не знает автор, где там единственная гипербола проходит и как изловчиться, чтобы ей, этой "кривульке", была "ортогональна" полоска света из-под тюремной двери. |
..Но довольно болтать, – минуты оставались, всего лишь несколько минут до ухода в другое измерение, когда Золушка спохватилась: кое-кто на нее надеется... ждет помощи от нее.
– Стоп, – сказала она. – Ты ведь здорово набедокурил, когда тебя во дворец не пускали... Было, правда же? Собираешься загладить это, исправить? Я сама видела гусиную лапу у одного министра... А еще двоих ты склеил спинами, говорят... Ну за что?
– Слушай-ка... твоя доброта – она имеет границы или нет? – Жан-Поль глядел на нее изумленно. – Неужели тебе неохота насолить всей компании, всем этим шакалам и гиенам? За то, как они обошлись с тобой?!
Она слабо покачала головой: нет, не было у нее такой охоты. Ей надо было покинуть свой земной и телесный образ, непременно зная, что никаким злом, ни большим, ни малым, она не наследила тут, на земле... Вдруг поняв это безо всяких ее объяснений, начинающий волшебник кашлянул смущенно, отвел глаза и язвительно сказал сам себе так: "Вот оно что... Выходит, грубейшие ваши ошибки, сеньор троечник, и самые большие пробелы у вас – они вовсе и не в геометрии!"
Или как русская пословица говорит: на всякого мудреца довольно простоты...
Отвечая на Золушкину просьбу, пришлось Жан-Полю объяснить: того, что он сделал, когда был вне себя от злости, сейчас, сию минуту не исправишь... Вот когда, уже невидимые, они окажутся рядом с жертвами этих проделок – а они окажутся, он обещает! – тогда пожалуйста, можно будет расколдовать и осчастливить ее подзащитных, если она настаивает...
– Так, у тебя – все? Готова? Последние четыре минуты нельзя будет болтать, поняла? Ни полсловечка не скажи, не то придется все начинать сначала...
Еще немного – и в молчании предстояло растаять. Наподобие мороженого... Да – как то, например, изумительное мороженое, что подавали на первом в жизни Золушки королевском балу! Странное дело: он был лучше самой свадьбы, тот бал. И запомнился подробней. До последней мелочи оживало все в памяти: как танцевали они вальс, как все прочие пары почему-то оставили их одних, а сами к стенкам приросли и колоннам... Как Лариэль был опьянен незнакомкой, как восхищали его ее неопытность и безыскусность, как он ухаживал, как летел на всех парах, торопясь доставить ей целый поднос с вазочками мороженого всех сортов и рискуя растянуться на скользком паркете!.. Не лишились ли другие гости этого лучшего из десертов? Если целый поднос – ей одной?!
Чудак он: тогда ей не суждено было доесть и той единственной порции, вот обида-то... Все удовольствия, все чувства, все слова и мелодии, от которых кружилась голова в ту колдовскую ночь, обрублены были стрелками часов, их неумолимым рвением сомкнуться, совпасть на цифре 12... Оставались крохи времени!
Вот похожая история и теперь...
Глава седьмая, последняя.
| Смертельный спектакль | Если бы медовый месяц продолжался, ничем не сломанный, не нарушенный, пухоперонский историк мог бы записать: "Клонился к закату 27-й день сладчайшего этого месяца..." |
Во-первых, все хуже чувствовал себя сам король. Он почти не вставал. Уже не было у него сил закатывать обычные королевские капризы, унимать которые одна Золушка умела. Теперь болезнь протекала тихо: ни просьб, ни протестов. Многие придворные – без всяких указов сверху – перешли на шепот в обычном разговоре... По крайней мере, говорили на два тона ниже.
Вообще дворец затосковал. Да и как иначе: сама Смерть на пороге... И если бы только на пороге... Нет, – Ее Окаянство уже внутри... совсем рядом! Бок о бок с нами Ее Палачество, – так чувствовали более нервные... И знаете, это был тот случай, когда более нервные реагируют правильнее, чем толстокожие...
Странную, мучительно медлительную, нарочно растянутую пьесу играла здесь Смерть.
В начале своего спектакля Она долго, с издевательской старательностью вытирала ноги у подножия главной лестницы. Потом дотошно справлялась о самочувствии Первых Лиц королевства. Затем голосом утомленной ханжи интересовалась: а что, чаю нельзя ли здесь попросить?
Слуги уходили за чаем, а Смерть заботливо пристраивала свою кошмарную косу – то в каменную нишу, то возле статуи, – будто опасалась, что косе будет неудобно там и сям или что на нее позарится кто-то из придворных!.. А на этом проклятом инструменте ржавые следы бросались в глаза! Ржавые, но влажные... И зазубрины от бессменной тысячелетней работы...
К столу Смерть садилась, так и не сняв пыльного балахона, оставаясь в перчатках... Только капюшон откидывала – и люди шарахались от этого гладкого черепа, от этого лица – красивого, между прочим, и очень даже красивого... Вот только не любит никто таких тонкогубых и как бы не имеющих пола лиц. Не говоря уж об умопомрачительной бледности: лицо будто сплошь усыпано мукой высшего сорта... (Не странно ли сказать здесь, что бледность была - смертельная?)
Гостья требовала песочные часы. Рассиживаться Ей можно было лишь до тех пор, пока часы не показывали: шабаш, сроки для очередной жертвы исполнились... Тогда Она брала косу и отлучалась на несколько минут. Вот фокус-то: в самых же разных точках Земли находились жертвы, но у Нее любая из них отнимала лишь несколько минут – как это, Господи?! А после – снова за стол. Цедить холодный чай, всем видом своим показывая, что раздражает Ее здешний сервис! Во время чаепития Смерть распечатывала новенькую колоду карт (говорить ли, что было изображено на их "рубашках", с тыльной, то есть, стороны?..– Черепа, разумеется!). Смерть раскладывала пасьянс. И - что поразительно – пасьянс всегда у нее сходился! При этом радость Ее выражалась смехом, который пугал окружающих куда больше, чем гнев Ее...
Лакеев между тем от себя не отпускала! Вся процедура – вместе с отлучками по палаческим делам – тянулась часами, и люди изнемогали за Ее плечом от стояния на онемевших ногах. И от страха, конечно. По мнению же самой гостьи, эти дворцовые лакеи были плохо вышколены, возмутительно недогадливы. Предлагают долить погорячее и покрепче!– ну не болваны ли?.. – Наоборот, милейшие: похолоднее! Ледяного! Побольше льда! Прямо в самовар закладывайте лед, недотепы! – командовала жуткая гостья, и у молодого слуги Базиля просто отнимались ноги по дороге на кухню...
Наш рассказ или отчет – он как раз со слов этого Базиля записан: такой сон снился бедняге – и не как-то раз, а каждую ночь! Да разве ему одному? Чтоб далеко не ходить, – извольте: знакомая нам Люси-Не-Поддамся-Не-Проси с изумленным видом клялась, что ей показывали в четверг тютелька-в-тютельку такое же сновидение! Услыхав об этом, две графини и одна виконтесса самолично явились на кухню – потолковать об этом с Люси и Базилем: сны и у них были такие же!
Что же – могут спросить,– все поголовно, что ли, скисли в этой Пухоперонии? Все забыли, как радоваться?
Нет, зачем же все. Возле большинства домов еще разгуливали по два-три гуся. Значит, эти семьи могли предвкушать гусятину на обед и, следовательно, протягивать ноги не собирались пока... Одни были тонкими ценителями крылышка гусиного, другие – ножки, третьи - шейки... вот вам и темы для оживленных, даже запальчивых дискуссий, стало быть! Все, правда, медлили заносить кухонный нож над последней своей гордостью и последним оплотом благополучия – над этими двумя-тремя... Все последнее по-особому дорого, вызывает сентиментальные сожаления и вздохи... пухоперонцы глотали их вместе с голодной слюной... Гуси могли важничать, скажем, до... до послезавтра... если хозяин не осатанеет раньше и не выскочит во двор с ножом и зверским выражением лица... Но можно определенно сказать: пока им было на кого напускаться с ножом, – было и чему радоваться. Хотя бы изредка.
| Блаженство быть врозь |
Настоящая радость случилась в этом месяце у Армана Коверни и Эжена де Посуле. Может, не все помнят их? На всякий случай: оба они были членами Совета Короны, но Арману давались отдельные поручения, а Эжену пока их только обещали, третий год уже... Еще они оба-два числились женихами сестер нашей героини. |
А намного ли было легче без свидетелей? В парном их уединении? Мы все зависим друг от друга, но когда – до такой степени и когда ни минуты врозь, то поверьте: вы станете высматривать топорик или медный пестик, вам жутко хочется нарушить первейшую из христианских заповедей!
Понадобилось, скажем, Эжену в туалет – так надо ж дождаться, пока и Арману приспичит, иначе – ...нет, будем же деликатны, не станем расписывать в деталях чужое унижение.
Так вот, когда разъединили несчастных (тихонечко это случилось, во сне, в ночь с пятницы на субботу) – безмерное было ликование наутро, в голову ударили, подобно шампанскому, райская свобода и сильнейшая охота жить, крылья выросли, на седьмом небе были оба! И первым делом – разбежались они тогда по домам отдыхать друг от друга, свободу праздновать... Каждому из них казалось, что теперь год или больше не сможет он видеть без ужаса и отвращения своего "близнеца"... Но прошло не так много дней – и вот случайная встреча на аллее дворцового парка:
– Арман, дорогой!
– Эжен, птенчик! Как приятно видеть после всего твою физиономию! Я ее не слишком расчесал тогда?
– Дело житейское. Видимо, это моя аллергия тебя беспокоила, так что, наоборот, ты меня извини!
– Зато ты мог оценить мой ишиас...
| Если вздор умножить на страх |
– Кстати... раз уж заговорили о хворобе – новость знаешь? Сногсшибательную новость! Творог с Кисломолочных островов чертовски опасен стал! В нем нашли ботулотоксин – крайне, крайне несимпатичный яд. |
– Как яд?!
– Обыкновенно. Картину дает такую. Сначала все видишь как бы сквозь сетку... потом страшная сухость во рту... голос делается гнусавым, потом исчезает вовсе; когда ты пьешь, жидкость выливается через нос... Смерть как таковая приходит от паралича органов дыхания, зато сознание сохраняется, – чтобы свою трагедию ты мог досмотреть до конца с ясной головкой... Хочешь такого творожку?
– Какой ужас...– пробормотал побледневший Посуле. – А мы – мы так домогались его!
Коверни заодно и военную обстановку объяснил:
– Как только выяснилось, что Кисломолочные озера заражены, - фармазонские власти оцепили их и чуть что – палили в воздух, сигналили об опасности... А наши генералы доблестные наложили в штаны и ответили сразу тремя командами: "В ружье!", "Ложись!" и "Беги врассыпную!". Нет, Эжен, ничего нет хуже, чем предвзятое мнение. А откуда оно? От нашей малой осведомленности, которая всегда умножена на страх!
– Как это верно... как глубоко сказано! – восхищенно сказал Посуле, одновременно ужасаясь тому, как плачевно, как непростительно он отстал от событий, от сегодняшнего их понимания. – Знаете, Арман, – впрочем, мы же на "ты", да? – знаешь, когда мы с тобой были одно , то головной, передней, мыслящей нашей частью был ты! Признаю без колебаний.
– Ну что ты... мне, право, неловко... Зато душевные наши качества, нравственные – располагались на твою сторону! Да-да. И не спорь.
– Спасибо, милый...– Посуле был по-настоящему тронут. – Ведь неважно, черт возьми, где помещается совесть – спереди или сзади, а? Или, скажем, чувство прекрасного.
– Вот именно, – вяло поддержал Коверни; взгляд его к этой минуте стал уже рассеянным. – Важно, чтоб это было. А оно было! Ибо – чесалось... Теперь такой вопрос: ты наших девочек видел? В смысле – невест?
– Как? Они... снова невесты? Ты же говорил, что падение принцессы, их сестры, означает для нас...
Коверни перебил:
– Говорил, говорил. Но сейчас-то – разве мы присутствуем при ее падении? А не наоборот?
Справа послышался скрип колес.
– Ба-ба-ба, сюда идут... или даже едут. Давай-ка в кустики...
И они затаились среди жимолости. В кресле-каталке появился не король, как ожидал Посуле, – там сидел принц Лариэль. Ничто не говорило о каких-либо телесных недугах, но передвигался он теперь в основном этим способом. Отобрал у не встававшего с постели папы инвалидное кресло и катался в нем! Впрочем, когда доходило до сильного душевного волнения, принц забывал сразу, что прописал сам себе этот полупостельный режим: вскакивал, бушевал, отдавал распоряжения, наводившие панику... Угомонясь, возвращался в это кресло.
Но сейчас даже и подумать было нельзя, что он способен бушевать: принц Лариэль подобен манекену... Не изображал ли он манекен нарочно? Не было ли это пародией на самого себя? Сложно сказать... Сопровождал принца, толкая перед собой каталку, господин Фуэтель, министр эстетики.
| Новое в искусстве навигации |
– Корабелы говорят, Ваше Высочество, что новая яхта повторяет форму туфельки идеально. – докладывал Фуэтель. – Они только спрашивают: а так ли уж нужен каблук под кормой? Все равно ведь, говорят, его не видно в воде, а он там будет тормозить или даже "табанить" при команде "полный вперед"!.. В общем, у них опасения насчет каблука. |
-Возьмите сапожника простого, нарядите его адмиралом – и пускай он ими покомандует... Окажется, что навигация без каблука немыслима.
– Слов нет, Ваше Высочество, до чего убедительно! – тон у Фуэтеля был восторженный, но бывшие близнецы видели по его лицу, что у министра слегка "поехала крыша" от таких странных распоряжений...
Они повернули направо и скрылись в аллейке, проложенной в чащобе виноградника.
А из цветущей жимолости вышел на солнышко Коверни и выпустил приятеля:
– Слыхал, Эжен? Как думаешь, будет называться эта личная яхта принца?
– "Золушка"? Угадал?
– Это нетрудно... раз надо форму туфельки повторять! Впервые в истории судостроения! Но вот угадаешь ли, кого еще сюда несет? - и он буквально за шиворот силой увлек Эжена за собой в прежнее их укрытие. Такую беспардонность Арман объяснил детским словечком, которое – в переводе с пухоперонского – звучало как наше "атас!"
Сюда шла дамская троица: мадам Колун с дочками Колеттой и Агнессой. Очень было полезно женихам услышать несколько фразочек из их речей, для посторонних ушей не предназначенных...
| Чья пропажа? | – Значит, так, девочки. Все должны видеть, что это наша пропажа, наша – даже больше, чем ихняя! Так что, если Эжен с Арманом прилипнут, – вам не до них... у вас горе-тоска-кручина... вы не просыхаете от слез... Я вам про генералов новеньких говорила? Не мужчины, а шоколад с ромом! Поэтому с той парочкой – тверже и гордей! |
– А как? – спросила мадам Колун. – Твердей и горже?
Сестры залились смехом.
– Вы потише хихикайте: не смеются тут! В последний раз смеялись, знаете, когда? Когда ваших двух женишков одним тяни-толкаем сделали, – напомнила дочкам мать.
– Ну что я могу сделать, если мне смешинка в нос попала? - оправдывалась Агнесса, снова прыская. А Колетта, заразившись от сестры смешинкой, предложила подняться и пересидеть в зимнем саду, а еще лучше – в королевской библиотеке: если надо тоску изображать, – сказала она, – книжки ее лучше всего нагоняют...
Когда дамы удалились, заросли жимолости опять выпустили мужчин. Коверни был взбешен, Посуле выглядел скисшим.
– Понял, как дела нынче делаются?
– Почти. Понял все, кроме "тяни-толкая" – кто это, Арман? Зверь такой?
– Не знаю. Знаю одно: такую тещу я уступаю новеньким генералам без боя ! Не желаю, чтобы со мной обращались "тверже и гордей"! Гордей!
– Кошмар. В общем, мы опять передумали, да?
– Как "мы" – не знаю, а я точно!
– Нет-нет, я тоже... Будем, так сказать, еще гордей, да?
Не знаю, как вас, дорогой читатель, а меня, автора, занимают эти разговоры не сами по себе. Они что-то приоткрывают новенькое в судьбе Золушки, в отношении к ней разных людей.
Видите ли, я ведь не вхож в то измерение, куда увел нашу героиню юный чародей; там все недоступно мне точно так же, как и вам. Поэтому только отраженным, косвенным способом можем мы с вами теперь узнавать про нее...
| Гуси и гении |
Вот что это значит – если гадая на своих дочек, сжигаемая страстью выдать их замуж поскорее и получше, мадам Колун видит уже других кандидатов, более козырных? С чего бы это? А что значит – "не смеются тут"? Я, например, не сразу разобрался... Для этого понадобилось улышать продолжение доклада Фуэтеля принцу. |
– Как, вы сказали, вся книга называется?
– "Сказки моей матушки Гусыни", Ваше Высочество. Там не только про Золушку... Я обратил бы ваше внимание на восхитительную историю "Кота в сапогах", на леденящую кровь сказку "Синяя борода"... Прикажете перевести на пухоперонский?
– Пожалуй... Он бывал у вас, этот автор? Не знаете? Узнайте. Матушка Гусыня – по-моему, ясный намек, что бывал! А в противном случае, откуда ему известно все?
Фуэтель поспешил успокоить королевского сына:
– Не все, Ваше Высочество, – к счастью, не все. Огорчения последнего времени туда не вошли, сказка о Золушке оканчивается у него вашей свадьбой.
– Ей-богу? – с надеждой уточнял принц. – Значит, я еще выгляжу там пристойно?
– О, не то слово, Ваше Высочество! В первый же вечер вы доводите героиню до высшего восторга, до головокружения. А уж сама она просто неотразима!
Вообще говоря, мой принц, ей суждено было выглядеть немножко пресной или чересчур сладкой – из-за некоторого перебора достоинств. Тут, изволите ли видеть, и доброта, и терпение, и ангельское чистосердечие, и редкое трудолюбие, и скромность – читатель ощущал бы не слишком большое доверие и – осмелюсь даже сказать – приторно- сладкую слюну... Но к ее добродетелям автор присоединил какую-то таинственную грацию – и она стала покорять целые страны! Прежде всего детей, но вслед за ними и взрослые от нее в восторге...
Спиной принц Лариэль придал своему креслу резкий обратный ход; оно наехало колесами на лакированные туфли красноречивого министра эстетики. Тот скривился от боли.
– Не надо ее хвалить, я не просил вас об этом! Вам ее хвалить нельзя, неужели не ясно? Не лично вам, а всем вам, любому из вас! Грация была у нее своя, никто ничего не присочинял! В общем так: перевести и напечатать сто тысяч экземпляров. Как имя сочинителя?
– Перро... Шарль Перро, Ваше Высочество... – в руках министра дрожал мини-блокнотик, заведенный в подражание барону Прогнусси; там он сделал пометочку: "100 000 экз.".
Потом принц о памятнике заговорил. Кому или в честь кого памятник – уточнять не требовалось: и говоривший сидя, и слушающий стоя – оба хорошо знали, о чем речь.
– Вы подали мне семнадцать проектов. Семнадцать... И все это холодно, грубо, слащаво, безжизненно!– лицо принца выразило страдание. – Господи... Неужто забыли уже, какой она была? Вот здесь же ходила! На этом месте стояла... вот где вы сейчас. Здесь она мне рассказывала про детство свое... Она его в таких подробностях помнила... Сойдите с этого места!– нежное воспоминание вдруг оборвалось гневным этим приказом .– Кыш!
Фуэтель этаким стрекозлом перепорхнул на другое место. Но, видимо, исчезнувшая принцесса когда-то стояла и там! Под капризно- страдальческим взглядом принца пришлось переместиться еще два раза.
– А голос? Голос помните?.. А теперь вообразите, черт побери, каким голосом заговорила бы такая статуя... Я, например, глядя на ваши проекты, слышу тетю Гортензию мою! Или эту... как ее? – камер– фрейлину нашу! Все не то, в чем-то главном не то, понимаете вы? – сейчас принц не разнос устраивал – уместнее было бы другое, странноватое здесь слово – взмолился:
– Фуэтель... мне нужен гений, чтоб ее изваять! В Пухоперонии есть гений сейчас?
– Если гений понадобился трону – он обязан быть! - жизнерадостно выпалил министр и стал быстро-быстро листать свой мини-блокнотик, как опытный картежник колоду. – Я только затрудняюсь назвать сию минуту... понадобится время, Ваше Высочество...
Но принц повесил голову. И сказал угрюмо, словно это был приговор самому себе:
– Где там... Мы и гусей-то плохо выращиваем, а уж гениев... Поехали прочь отсюда.
| Не с пустыми руками из Фармазонии |
Легче ему не стало и в самом дворце: там, на каменной бело-розовой террасе, перед ним расшаркались еще два персонажа – карлик Прогнусси и Бум-Бумажо. Они были в отъезде какое-то время, но принц нисколько не успел по ним соскучиться. Заметно было, что они не похудели, не переутомились...Зачем они пожаловали? Разве им было назначено? |
– Как, неужели еще не все?! – спросил принц и в страхе заслонился руками. – Вот ужас-то... Вы, господа, меня запугиваете...
Карлику Прогнусси было угодно понять последние слова как шутку, и он попытался утеплить свои совиные глаза за зеленоватыми стеклами:
– Надеюсь, этот добрый юмор доказывает, что мой принц здоров? И это инвалидное кресло не означает...
Если бы сейчас они находились, к примеру, у бильярдного стола, – очень даже могло случиться, что Лариэль запустил бы тяжеленным шаром в эту коротенькую мишень! То есть, говоря на теперешнем обогащенном языке, принца достали... Но, похоже, он нашел лучшее решение, чем шаром в голову!
– Нет-нет, здоров, ничего такого кресло не означает. Престолонаследие означает, только и всего. Знаете, господа, у меня сильное желание угостить вас. Знаете чем? Догадываетесь? Ага... У меня еще есть, представьте...
Они переглянулись. Творожок с Кисломолочных островов он имеет в виду, это же ясно! В один голос побледневшие министры сказали, что благодарят, что они сюда явились прямо из-за стола и вполне сыты... Барон Прогнусси видел: не может принц простить их общей ошибки, их курса на брачные узы с Фармазонией. Откашлявшись, он заговорил об этом прямо. Политики без ошибок не бывает – это во-первых. Во-вторых, они имели дело с королем Балтасаром, а Его Величество сам оказался вероломно обманутым! Его предельно избалованная дочь...
Принц, глядя на карлика в упор, продолжил его доклад:
– Да-да-да..."в своей неслыханной извращенности" эта Юлиана любила, оказывается, простого музыканта. А папа ее, от которого это держалось в тайне, напрашивался к нам в родню без ее ведома, за ее спиной... Знаем. Эта новость прокисла уже неделю назад и не интересует нас вовсе, барон.
Бум-Бумажо (кстати, его поздравить можно: он уже обладатель собственной нормальной руки вместо той позорной гусиной конечности!) сказал, что они "вернулись из Фармазонии не с пустыми руками" Они встречались с выдающимися людьми этой страны... встречались не затем, чтобы приятно время провести, а исключительно в государственных интересах...
Тут между бароном-карликом и министром свежих известий завязалось соперничество, сперва деликатное, а позднее – не очень: каждый норовил такое доложить, чтобы оживился тусклый, скучающий взор принца. Каждому хотелось, чтобы его, именно его служебные усилия и верное чутье оценил с похвалою принц. Невмоготу им было мириться с тем, что с высоты трона на них, как на старую ветошь, глядят... Или даже – как на клопов. Для человека при дворе это катастрофа и острый катар желудка с потерей аппетита и сна! Так что старались они, очень старались заслужить другой взгляд!
Барон Прогнусси доложил: случай помог ему выйти на одного из богатейших людей Фармазонии. Огромное его состояние сделано на нефтяных отходах: принадлежащие ему предприятия выпускают сотни видов продукции – от черной икры до дамской косметики! Этот ловкач успел прослыть первым авантюристом страны и даже на каторге побывать... недолго, впрочем, – года три всего. А теперь с ним очень даже считаются при дворе Балтасара; министры и дипломаты мечтают, чтоб он пригласил их перекинуться в картишки с ним! Пример для наглядности: его галстучная булавка с особо крупным бриллиантом стоит больше, чем вся пухоперонская Академия наук вместе с жалованьем академиков!
Так вот, у этого господина – единственная дочь-невеста... Девушку так тянет познакомиться с Его Высочеством принцем Лариэлем, что она решилась наведаться к ним! Причем, одна, без папы... только в обществе четырех телохранителей! Сейчас она – в отеле "Гусиное крылышко"... одна в громадном пустом номере... в пяти минутах ходьбы от дворца. Барон не считает себя тонким знатоком женской красоты, но на грубоватый его взгляд девушка – розанчик !
Принц никак не отозвался на эту информацию. Вид его оставался скучающим. Он перевел взгляд на Бум-Бумажо, которого распирало от нетерпения. И услышал историю, начинавшуюся кисло: в этой поездке министру свежих известий срочно понадобилась переделка зубного протеза, который то натирал невыносимо, то соскакивал и мог вообще выпасть на ковер при людях!
Один дипломат привел страдальца к наивысшему авторитету в этой деликатной области, к профессору Y. "Великий маэстро, поверьте, Ваше Высочество... я на себе убедился! – расхваливал его Бумажо. – виртуоз и волшебник! Представьте: он немедленно выкинул в корзину тот негодный протез, и я не успел закрыть рта, как получил новенький... Нет, вам его искусства не надо, я понимаю... Но должен заметить с грустью, понятной всякому патриоту: вилла профессора оставляет далеко позади этот дворец!"
– К дочери переходите, к дочери! – раздраженно поторопил Лариэль. – Дочь его – розанчик? Или Афродита?
– Не дочь, Ваше Высочество. Внучка! Сам он – крепкий, как дуб, старик...
– Но внучка-то – Афродита? Или, скорее, розанчик?
– Снимки у меня с собой, Ваше Высочество. Замечу только, что не я, а господин Фуэтель любит у нас такими комплиментами сорить... Внучка по-своему мила и обучена хорошим манерам, но скажу сразу: у нее, пардон, довольно заметные усики...
– Да? – принц поднял бровь и спросил, будто невзначай. – Но протезы-то хорошие?
– Как влитые! – мгновенно отвечал Бум-Бумажо и оскалил в улыбке свои новые искусственные зубы, и лишь потом озадачился: – У кого, простите?
– Неважно. Фуэтель, взгляните на снимки. Бум-Бумажо передал пачку фотографий главному знатоку красоты.
– Афродита?
– На мой вкус – не совсем, Ваше Высочество, – отвечал Фуэтель, которому казалось, что политически правильнее – поддержать невесту, найденную Стачетырьмясантиметрамистраха...
– Стоп! – перебил принц министра и самого себя. – Чихнул кто- то? Или мне послышалось? Не один из вас? Эй!– Он поднялся из кресла и прошел всю эту просторную террасу по диагонали и обратно. Что-то похожее на "апчхи!" слышали и другие... но почему он придавал такое значение этой чепухе? Министры переглядывались, недоумевая. – Кто чихнул? Будьте здоровы!
Каменная бело-розовая терраса примыкала к королевской библиотеке. Оттуда и возникла, из-за ближних шкафов и стеллажей с книгами, мадам Колун, имевшая самый простодушный вид, а за ней, конечно, – Агнесса и Колетта. Разумеется, они прилежно подслушивали все это время. А теперь – присели все трое в благочестивом поклоне. Принца поблагодарили за пожелание здоровья, а само чиханье объяснили книжной пылью.
Лариэль явно был разочарован, ему хотелось совсем другого... никто не понимал, чего именно... На его вопрос: "что привело сюда дам?" мачеха Золушки ответила целой сценой: у нее растянулся в плаче рот, она часто заморгала, дочки ее проделали тоже самое... В общем, даже недогадливые должны были понять: скорбь их привела! Безвыходная, беспросветная скорбь по пропавшей дочурке и сестричке!
– Дай, думаем, цветочки положим на этот камень... – всхлипнула мадам Колун.
– На постамент памятника будущего, – пояснила Агнесса.
– А я как сказала? Я и говорю: на постамент. Знаем ведь, что это не могилка, что нет ее там, а где она – неизвестно...
– Мам, так ведь лучше же, что не могилка... – утешала Колетта.
– Мадам, – подойдя к мачехе вплотную, строго обратился к ней принц. – Золушка жива, и ахинею нести не следует. Грех!
– Жива? Это вы точно знаете? Радость-то, радость-то какая. – С трубным звуком она высморкалась в платок, расшитый в прошлом году руками падчерицы. – Да мы, честно говоря, и сами знаем, что жива. Материнское сердце вещун. Оно все чует.
– Не нужно темнить, мадам Колун, – попросил Лариэль. Он вернулся в кресло, но всем корпусом подался оттуда вперед, когда спрашивал: – Скажите просто: слышали вы ее голос в эти дни?
Мачеха сообразила: вот он, ее шанс! Если кто-то мог слышать Золушку, то почему ж не они, не самые родственные ей люди? Всякий человек имеет свою фантазию, и вот как брызнула фантазия у мадам Колун:
– Было, Ваше Высочество! Не один раз. Я крест поцелую, что этой ночью была у нас беседа с ней. Вот что больше всего ее заботит – это, конечно, положение сестер. Не может она без слез видеть, что девочки до сих пор не замужем. "Знаете, говорит, мама, когда я в такой славе, в почете таком, – второстепенные придворные, вроде господ Коверни и Посуле, – уже не пара моим сестренкам. Им бы каких-нибудь генералов моложавых..."
– Какая же она прелесть! – подхватила Агнесса.
– Моложавый генерал – лучше и нельзя посоветовать даже! - восхитилась Колетта. А мадам продолжала излагать главную заботу Золушки:
– "В общем, говорит, принц непременно подыщет для них что- нибудь поосновательнее..." Нет, как это она выразилась? Я слово забыла...
– Попрестижнее? – подсказала Агнесса.
– Вот! Ее слово!
Тут некоторая странность возникла: кто-то усмехнулся и тяжко вздохнул. Пустяк в общем-то: смешок и вздох от всего сердца, без единого слова. Но прозвучало это так, что семеро участников сцены переглянулись в испуге, потому что ясно ощутили: из кого-то 8-го это вырвалось... А кто восьмой-то?! Но с таким же успехом и почудиться могло...
-Вы слышали? Слышали?! Это по поводу вашей беззастенчивой лжи, мадам Колун!
– Кто вздыхал-то? – не отступала мачеха. – Я крест поцелую, что вот так все и было...
И тогда Лариэль попросил их покинуть дворец! И пообещал внимательно разобраться с тем пергаментом, где им давался графский титул... Поскольку и без очков видно: очень все-таки сомнительный документ...
Тут младшие графини заскулили. Мамаша их решила обратиться за справедливостью прямиком к падчерице: задрала голову, простерла руки к люстре и завопила:
– Ты глянь, дочура моя! Что хотят, то и делают! Не верь, не верь, голуба моя, памятникам да кораблям, на которых имечко твое малюют! Ты лучше полюбуйся, моя горькая, какие пасьянсы твой муж раскладывает: одни фаворитки на карточках, другие живьем, в гостиницах дожидаются... И нас, главное,прогоняет, чтоб уж полная свобода ему была!
Тогда принц сказал министрам, всем троим: этой славой он им обязан – вот пусть они и проводят дам...
Делать нечего: под конвоем по-черному мрачных министров мадам Колун и дочки стали спускаться по лестнице.
– Что же ты наделала, мать?! – в ужасе шептала Агнесса. - Ведь это конец... Finita!
Колетта просто рыдала в голос, уже не стесняясь никого:
– Уж лучше оставались бы Арман с Эженом! А теперь ведь ноль! Но-о-о-оль!..
Принц Лариэль остался один. Наконец-то... Забыв об инвалидном кресле, он стал ходить кругами, по террасе, по бильярдной, по библиотеке (эти три помещения сообщались между собой); он стал напряженно вглядываться в воздух, почти ощупывать его руками – как будто воздух, пустоту можно ощупать!
– Золотко мое, – произнес Лариэль осторожно. Губы у него были сухие-сухие. – Ты ведь здесь? А? Ты здесь, я знаю!
Но ответил ему мальчишеский голос. Мы знаем – чей.
– Нет ее здесь.
– Позвольте... кто это? Разве это не ее вздох я услышал?
– Мой. Это я не выдержал.
– А она? Она близко? Я смогу заговорить с ней?
– Не сейчас. Сейчас она кормит папеньку вашего и сообщает ему историю Стойкого оловянного солдатика – только за сказку он согласился поесть. А вообще лежит старичок будто без всякого присмотра, небритый... на тумбочке что-то заплесневелое, в стакане – две осы... Эх вы!
Лариэлю стало стыдно.
– Да, правда ваша, – он тер свой лоб так, будто пытался избавиться от странного пятна, которого вчера еще не было. – Правда ваша... Не пристало, конечно же, королю...
– Да не королю, черт возьми! Отцу родному! Папе... – с досадой выкрикнул голос Ученика Феи.
– Все знаю, нехорошо, стыдно... – бормотал Лариэль, а сам все пытался понять, откуда голос-то, где он, таинственный этот паренек...– Я распоряжусь... Но вы про нее, господин чародей, про нее скажите! Когда вы ее... как бы это сказать? Когда вы ее отпустите?
Он услышал смех мальчика. Недолгий, впрочем, и невеселый.
– Ха-ха! У меня точно такой же вопрос к вам, принц. Только не время сейчас – вон свита ваша...
Принц оглянулся. Да, не только вернулись те трое, но еще и генерал Гробани к ним добавился, а возглавила всю процессию герцогиня Гортензия, сестра покойной королевы-матери!
– Опять вы? Зачем? – с холодной яростью спросил принц Лариэль. – Будем взвешивать достоинства нефтяных отходов и зубных протезов? Усики и родинки?
Но разве смутишь таких людей, как они, – наметивших цель и на все готовых ради нее?
– Спокойней, дружок, – сказала тетя. – Мы интересуемся: долго ты еще собираешься киснуть? В инвалидной коляске кататься? Огорчаешь, племяш. Ожидания не оправдываешь. К такому вот выражению лица корона не подходит...
В другой обстановке – вернее, перед другими людьми – он признал бы: правда истинная, все так и есть... мало что светит пухоперонцам от такого мрачного, тяжелого меланхолика, каким стал он... И вряд ли он сделается другим, надев отцовскую корону... Но баловать откровенностью этих – ни за что!
Генерал Гробани предложил принцу попробовать бег. Пять- шесть раз вокруг дворца, с высоким вскидыванием коленок, утром и вечером... Советовал генерал по личному опыту: сам он, когда овдовел, расклеился так же нехорошо, так же надолго, и спас его для службы и отечества исключительно такой бег. И еще – бассейн! Только воду в нем надо от – 5 до + 5 ; теплей – вряд ли поможет!
Рассеян был принц, глуховат к добрым советам... И вдруг, оглядев всю компанию, он оживился и крикнул камердинера своего, Гастона. Опять клюнула в темечко та идея: надо угостить их! Угостить знатно, чтоб запомнилось... Идея овладела принцем так азартно, что и от самих гостей не утаил ее Лариэль! В леднике, объявил он многообещающе, осталось фунта три фармазонского творога!.. Господа, небось, так по нему соскучились!.. Накроем стол, посадим за него всех пламенных борцов Кисломолочного движения, все они тут как раз...
И принц повторил свой клич с нетерпением: "Гасто-он!"
По крайней мере, у троих из свиты лица серыми стали, они затрепетали, готовы были о пощаде молить, но герцогиня и карлик Прогнусси оказались не столь пугливы.
– Полно, полно, принц...– сказал шелестящим голосом Сточетыресантиметрастраха. – Не будем фордыбачить, да еще наивно так. Гастон – мой человек... Да-да, на двойном он жалованье – у вас и у меня... не извольте сомневаться. Начальником стражи у вас - шурин мой... Так что не надо. Тетушка ваша права: соберитесь-ка лучше, коронация на носу...
В этот момент появилась служанка Люси:
– Ваше Высочество Гастона изволили звать? А он чего-то скушал несвежего, маялся... и попросил подменить его.
Похоже было, что развязку этой сцены именно Люси принесла. Та самая – Люси-Не-Поддамся-Не-Проси. Принц Лариэль зачем-то удержал ее за руку, хотя без его позволения она и так никуда не делась бы. Почтенным членам Совета Короны было сказано сухо и твердо, что принц будет занят теперь, что беседа откладывается "на потом"...
Когда получившие от ворот поворот спускались по лестнице, карлик-барон ткнул генерала Гробани двумя сухими злющими пальцами в область печени:
– Такие вот штуки откалывает молодость, друг мой. А вы бег навязывали! Ха-ха.
| Загадочные старания |
Оставим на совести карлика догадки насчет чужой личной жизни! |
– Расскажи: после четверга говорила она с тобой?
– Нет пока...
– Вот видишь, и ко мне не торопится. Ты мне повторишь, как она сказала? Не все... всего не надо, а только то, что меня касается?
– Да сколько хотите! Но про вас она же очень коротко сказала, одно сочувствие – и все... "Трудно ему, Люси, говорит. Просто человеком – и то быть нелегко, все время надо стараться. Каково же принцу, на которого смотрят все?"
Лариэль слушал с напряженной застывшей улыбкой. Слова эти, при всей их простоте и ясности, казались чем-то вроде кувшина с узким горлом, из которого журавль потчевал лису в басне: как ни увивалась возле кувшина рыжая, сколько носом туда ни тыкалась, ничего, кроме дразнящего запаха, не досталось ей... А теперь в такой роли – он...
Он признался: вот уже не в первый раз Люси ему пересказывает это, и все время какая-то загадка ему чудится в детской этой фразе - все время надо стараться!
Еще он спросил, какой был голос – без слез? Оказалось - спокойный. Как бы с улыбкой печальной, и не более... Он уговорил или даже заставил Люси сесть рядом с ним. Она ужасно смущалась: в таком близком соседстве с ним самим? Сидеть? Ей? Да еще в этом вот фартуке? Наконец нервно сняла фартук и присела на краешек стула... а из карманчика фартука просыпались вдруг семечки. Вот стыдоба-то! Чуть– чуть просыпалось, но Его Высочество заметил! И – чего уж никак Люси не ожидала – попросил у нее горсточку... Надо же!..
Господи, какая же непонятная штука – жизнь! А душа человеческая – вообще вроде джунглей... Она сидела – к плечу плечо – с самим принцем, то есть с королем будущим, они разговаривали вполголоса о личном, о самом задушевном, и грызли подсолнухи! Конец света, а? Кто из прислуги поверит? Да ее засмеют, если эту картинку попробует подругам изобразить! Люси отогнала мысль о таких насмешках маловеров. И рискнула попросить принца об одолжении одном. А почему нельзя? – имела она право, раз уж такая у него к ней доверенность!
Трудность и стыд состояли в том, что у Люси ребеночек был в приюте. Мужа не было, а ребеночек был. Да. Два годика и два месяца ангеленочку ее... И никто не знал про это, и знать не должен. Так вот, ей понянчить свое дитя, налюбоваться на него только раз в неделю можно было – вечером в пятницу! А в десятом часу приют запирается уже! И – хоть головой бейся об эту дверь... не отопрут! А дорога туда ой некороткая... за час не доберешься...
Вот если б принц сказал камер-фрейлине, чтобы Люси в этот день отпускали с работы уже в четыре часа... ну, в крайнем случае, примерно в полпятого... Да так, чтоб эта грозная дама ни за что не узнала настоящей причины, по которой такая поблажка дается... Ведь узнает – и в шею!
Во дворце эту причину одной только душе можно было открыть - принцессе Анне-Веронике! Или, как теперь стали ее звать, - Золушке... Но прежде, чем пуститься перед ней в такие откровения, Люси долго собиралась с духом, балда, да и видела ее редко... А в тот день, когда Люси решилась, наконец, – Ее Высочество уже - все, отпринцессилась!..
– Ну а голосу ее из воздуха, какой он ни есть душевный, про ребеночка сказать страшно! Вот знаю же, что она не ведьма, а все- таки на нечистую силу сбивается! Да и чем она поможет, если нету ее, – голос и голос...
Потом, вспоминая разговор этот, Люси радовалась, что внимание принца рассеялось на ее последних словах: очень неосторожно все- таки сказано было, он и разгневаться мог! Запросто... И слово это "отпринцессилась" – оно же просто дерзкое, оно случайно сорвалось с языка... Но Его Высочество, оказывается, в пол-уха слушал, спасибо ему. Стал беспокойно вдруг спрашивать:
– Папина дверь – открывалась? На секундочку, да? Не заметила?
Люси в ту сторону и не глядела... могла только плечами пожать... Про кого или про что думал он? Про умирающего отца?
Принц встал. Походил минуту и распорядился: в пятницу пускай Люси привезет своего малыша во дворец! Здесь он будет воспитываться. Если она не против – принц Лариэль вырастит из него своего пажа!
Испуганная Люси сказала:
– Как пажа? Не выйдет пажа, Ваше Высочество: у меня девочка!
– А-а. Ну извини, недопонял. Фрейлина, значит, выйдет.
– Господи! Прямо вот так, сразу?.. Спасибо вам превеликое... Да что-то боюсь я, Ваше Высочество, таких подскоков на самый верх! Может, лучше все-таки договориться, чтоб по пятницам меня пораньше...
– Да все устроим, не беспокойся.. Спасибо за доверие, за честность... Редкий товар в наши дни, неходовой. И семечки у тебя хороши, оторваться трудно. Я помогу тебе... ступай...
| Поговорили... | Вот опять он остался один. И двигаться стал осторожно, словно за бабочкой охотясь. Но она была неуловима, та особая бабочка. Тогда он сел в свою каталку, запрокинул голову, свесил к полу руки... |
Зажмурившись, принц насвистел чуть-чуть дальше. И ее голос - засмеялся. Тихонько и кратко. Но этот смех с силой выбросил принца из кресла-каталки. Все время до конца главы (до конца повести и всей жизни!) ее голосу дана такая власть – то подбрасывать его к вершинам блаженства, то ронять в преисподнюю!..
(Важный этот разговор мы приведем полностью. В нем нет пустяков)
– Молчишь? Ну да... правильно. На нелепые, а в особенности на подлые вопросы ты отвечать не обязана. Послушай! Можно мне еще надеяться? Или я навсегда тебя проиграл?
Он стал объяснять ей, перед каким выбором оказался. Если она позволяет ему надеяться, – он выгонит этих сводников из Совета Короны! Она думает, он не знает им настоящую цену? Знает! Пакостники...кулинары бесстыдства... Нет, правда, он полон решимости выгнать, очистить дворец от них! И не только это: надо вообще попытаться сделать что-то хорошее для этой страны. Чтобы у пухоперонцев как-то возродился интерес к жизни... а то он усох теперь. Но если он проиграл Золушку навсегда, – тогда ему впору жениться на фармазонских нефтяных отходах! Тогда – чем бесстыднее, тем лучше! Потому что ему наплевать на себя тогда...
– Не нужно плевать. Я буду, буду поблизости...
– Что значит "поблизости"? Это не разговор! Я ошибаюсь, я злюсь, я падаю духом, я несправедливости делаю – а все потому, что тебя нет рядом! Ты не всегда около. А говоришь со мной еще реже! Я скучаю по тебе!
– Я тоже. По тебе.
– Так вернись! Или хотя бы обещай, что вернешься! К такому-то сроку, при таких-то условиях... Ну? Говори свои условия! Любые!
Но она замолчала. Ответом ему был только вздох, смиренный и горестный. Он уже подумал, что вот так, на полуслове, она вновь растаяла, испарилась бесследно, когда ее голос произнес:
– Ты так уговариваешь... как будто я сама не хочу! Погоди, я тут... посоветуюсь.
Невнятный шепот каких-то переговоров послышался. И невозможно было до конца понять, что напрасно шарить глазами, что всматриваться в углы бесполезно, что искать кого-то на потолке глупо! Не муха же она в самом деле! – сам на себя гневался он ...и продолжал буравить стены взглядом, следить за малейшим колыханием оконных гардин...
– Лариэль, ты слушаешь? Сказали – нет, к сожалению. Так нельзя.
– Как "так"? Как "так"?!
– Нельзя торговаться: "к такому-то сроку", "на таких-то условиях". Надо просто жить. Ну, конечно, не кое-как, а старательно, – только тогда можно на что-то надеяться...
– Опять эти таинственные старания! – воскликнул принц. – Вся премудрость у тебя – в одном слове, что ли? Негусто... А главное - не слишком ли ты сурова к нам, грешным?
Он почувствовал: она следует за ним, если он перемещается. Вот теперь, например, он медленно направлялся в бильярдную – и она с ним! Чтобы не тянуть к ней руки самым жалким образом, вроде нищего на паперти, принц взял со стола и стал перекидывать из руки в руку костяной шар – и один раз этот шар поймала она! Фантастикой это выглядело для Лариэля: тяжелый шар висел в воздухе просто-напросто!
– Золотко мое! Я же опять, выходит, остаюсь в том глупом положении, как тогда, на дворцовой лестнице... с твоей бальной туфелькой в руках... Ты будешь меня направлять хотя бы? Там "холодно", здесь "теплее"... "еще теплее" – хотя бы так?
– Иногда. Но теперь ты и сам гораздо догадливее... я уверена.
Нет, нужно заземлить ее, подумал он. В смысле – опустить на землю. А то впечатление такое, что одних ангелов она видит вокруг себя! Тем временем невидимая рука опустила тот самый шар на зеленое сукно бильярдного стола.
– Послушай...– Лариэль изо всех сил искал общий с ней язык. - Ты меня всегда идеализировала – с самого начала! У меня же средние способности! Знакомых волшебников не имею – не достоин, видимо... Если б не ты, никогда не угодил бы я ни в какую сказку – не настолько прекрасен... лень-матушка, наверно, не дает стараться так!
Да все мы такие, ты уж прости нас, обыкновенных людей. Слабохарактерные мы. Легко утомляемся. На нас давят – мы гнемся. Нам льстят – мы верим...не на сто процентов, но все-таки... приятно же! Покупают нас – мы фыркаем, но недолго... пока в цене не сойдемся... Мы вообще мало отличаемся от гусей, если хочешь знать! Нас вот-вот зарежут, сожрут с кислой капустой, а мы еще чванимся... форсим друг перед другом... планируем озабоченно какую-то хреновину... – отвечал ли язык Лариэля за все эти слова? Или уже сам по себе молол? В безрассудном гневе, в слепом бичевании всего и всех...
– Я, может, не все поняла, что ты сказал... но я не согласна! Мой принц – человек чести, это в нем сильнее всего. А талантов сразу несколько у тебя, они разные, они есть, – просто еще ты сам в этом путаешься, главного между ними не открыл!
Выходит, она давала ему надежду? Как он должен был понимать замечательную эту фразу: "Мой принц – человек чести..."? Всерьез она так считает, на самом деле?.. Или просто ободряет его?
Но тут вмешался голос малолетнего чародея (которого Лариэль, бессильно на него злясь, называл мысленно дьяволенком и еще почему- то – свистуном):
– Долго еще ты будешь объяснять ему, какая он прелесть? Мы это сами видели... А теперь мы опаздываем!
| В театр берут не всех |
– Куда?! – тут Лариэль совсем уж из себя вышел. – Эй... Куда ты ее уволакиваешь, Свистун?! Она – моя! – Берег бы получше, – получил он ответ, – была бы твоя. |
Голос Золушки, усмехнувшись, сказал:
– Можно подумать, что сама я чувствовала себя очень уверенно!
– Так захватите же и меня! – стал горячо и убежденно предлагаться принц. – Ее партнеру не помешают мои советы. Я ему по минутам расскажу всю роль! По минутам!..
Увы, ответного энтузиазма у юного чародея это не вызвало:
– Ах вот как? На сцене Их Высочество готово давать инструкции: там они все знают! Давай, Золушка, залезай вот в эти бахилы... Ну не было на складе сапогов-скороходов твоего размера!
– Счастливо тебе, Лариэль... – попрощалась Золушка тем напряженным бодро-суховатым тоном, каким говорят, когда сами боятся раскиснуть...
– Принц, наше вам с кисточкой! – крикнул Свистун, ученик Феи.
Стоял принц Лариэль посреди библиотечной залы. Мудрецы и писатели прошлых веков смотрели на него из неглубоких овальных ниш, позолоченных внутри, сделанных еще по заказу его деда, в незапамятные времена... Но что были принцу мудрецы и писатели, когда уходила она? Разве могли они помочь удержать ее? Или найти управу на этого молокососа-волшебника – могли? Или заменить ее? Это последнее средство он же пробовал – ни черта же не выходило...
Он ощутил, как шорох платья коснулся самого его лица! Шорох - и еще запах, роднее которого он не знал ничего в жизни... Вытянул принц руки в надежде перехватить свою радость... ну, если не перехватить, то задержать на минутку хотя бы, обнять напоследок!
Ничего ему не досталось, кроме легкого этого шуршания, – он поймал воздух...
Москва, 1995 г.