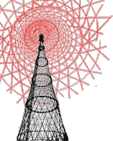Кто говорит? Пожарная контора!
Юрий Смирнов. Слова на бумаге.
Стихотворения, записи, наброски.
[Редактор-составитель Герман Лукомников]. М., “Культурный слой”, 2004, 480 стр.
 Поразила даже не смерть — ночью на заднем крыльце ЦДЛ, как ни крути, после смерти Александра Полежаева трудно представить исход страшнее, — поразили слова некролога, помещенного, кажется, в “Литературной России”. Эпитет “выдающийся” в 1978 году, в эпоху сплошных регламентов, выглядел странно, даже если некролог подписан и не официальными лицами.
К тому моменту сборники Смирнова “Обруч” (1969), “Времена года” (1974), “День рождения” (1976) были известны. Регулярно, пусть и не часто выходили подборки (одна из самых ранних — в “Новом мире” за 1963 год). Появлялись редкие и доброжелательные рецензии. Стихи отменны:
И каллиграфичность ограды
Слегка суховата, за ней
Осеннего Летнего сада
Разрежены купы аллей.
Мелодия старых курантов,
И неба молочная синь,
И строй полуголых курсантов
Среди обнаженных богинь.
Но уж так ли незауряден автор? С выходом книги “Знаки” (1980), первоначально собранной самим поэтом, а затем перешедшей в ведение комиссии по литературному наследству и значительно расширенной, все будто бы начало становиться на места. Оказалось, что этот тихий, ироничный человек, работавший инженером, писал не просто стихи отличные или превосходные. Стихов было много, и абсолютное большинство — на высоком уровне. Нынешнее собрание показало, что их куда больше.
Дабы понять, почему столь значительный мастер не получил широкого признания при жизни и был забыт на четверть века, стоит сказать о его биографии (в словарях либо энциклопедиях о нем сведений нет).
Смирнов родился в 1933 году в Архангельске, после войны жил в Москве. Учился в ленинградском Высшем инженерно-техническом училище Военно-Морского Флота, но с четвертого курса был отчислен. “За дерзость”, как пишет составитель сборника, основываясь, вероятно, на том, что из училища зря не отчисляют, а Смирнову пришлось после этого отслужить срочную службу на Севере.
Стоит предположить: отчислен из-за болезни. Вадим Черняк, друг Смирнова с давних лет, предполагает, что эпилепсия началась после нокаута, полученного на ринге в училище. Добавим — такую болезнь невозможно скрыть, а на конец пятидесятых пришлось сокращение армии. То, что Смирнов оказался в стройбате (составитель, видимо, смешивает его со штрафбатом), опять-таки вполне объяснимо.
После армии Смирнов поступает в Московский институт инженеров городского строительства и заканчивает его раньше срока. Затем работа на стройках, в Центральном НИИ экспериментального проектирования жилища, в “Союзводпроекте”. По всей вероятности, он хотел оставить ежедневную службу, потому что, будучи членом Союза писателей, поступил на Высшие литературные курсы, которые давали диплом о высшем гуманитарном образовании. Но перед самым окончанием курсов умер.
Смерть эта внезапна, обстоятельства ее темны. По словам Черняка, ресторанный официант вытащил Смирнова освежиться на улицу, где тот и замерз (после очередного припадка он крепко засыпал и ничего не чувствовал). По словам сотрудников Литературного института, к которому и приписаны Высшие литературные курсы, он умер после выпивки. Если это и фантазия, то отнюдь не на вольную тему, пристрастие его к спиртному в последние годы — не секрет.
Эта, за исключением развязки, почти счастливая судьба — приличная работа, социальный статус, публикации — была и вполне типичной. Ее обладатель знал и голод войны, и послевоенную неустроенность, как многие, поступил в военное училище, как многие, оказался вдруг — по собственному желанию или нет — на гражданке, в пятидесятых стал свидетелем перелома в общественной жизни, в шестидесятых ощутил легкость почти свободы.
В стихах этого периода абсолютная точность деталей, причем таких, что ушли безвозвратно и уже не вернутся. Гремит темно-алый трамвай, “нагретый будто докрасна”, “мирно дремлют на гвозде” наряды и квитанции, которые накалывали для отчетности нормировщицы, друзья приходят в субботу (второй выходной был новинкой и воспринимался с огромным воодушевлением). Автор выхватывает приметы донельзя характерные: мокнут под дождем “канадский бобрик” и “бабетта”, то есть юноша, постриженный “под канадку”, и девушка с прической, названной по прическе героини Бриджит Бардо из фильма “Бабетта идет на войну”. Такая же яркая примета времени — выставка в Манеже.
Во многом Смирнов близок современникам. Он радостно констатирует: “Я надеваю полимер”, подразумевая плащ “болонья”, вошедший в моду. Как тут не вспомнить стихотворную оду Б. Ахмадулиной, обращенную к автомату с газированной водой, также новинке технического прогресса.
Но созвучие и даже совпадения с поэтами его поколения у Смирнова лишь тематические. Для того чтобы быть причисленным к “эстрадным поэтам”, у него не хватало темперамента, и явная насмешка слышится в строках:
Дилижанс… Циклотрон… Гойя…
Трехколесный велосипед…
Индустриальный восторг молодого А. Вознесенского представляется ему наигранным. Но стихи Смирнова не относятся и к “тихой лирике”, он — поэт городской, даже окраина, чья судьба полна драматизма: (“И города из нас не получилось, / И навсегда утрачено село”, — напишет А. Передреев), не вызывает у него особых эмоций. А портрет Владимира Соколова, одного из лидеров этого направления, при всем сочувствии, окрашен скепсисом:
Или духа нет как нет,
Перекачан в строчки.
И глядит на божий свет
Дряблость оболочки.
Впрочем, в декорациях окраины разыгрывают драматический спектакль, построенный по законам экспрессионистской драмы, и поэты “лианозовской группы”. Смирнов знаком с их стихами, но не близок и к ним. Стих его мягче, классичней.
Родственны ему поиски других стихотворцев. Вот бытовая зарисовка:
Цветочный ряд. Тишинский рынок.
Аляповатый цвет картинок,
В мешочках белых семена.
Они по виду неказисты —
Черны, бугорчаты, землисты,
Роскошны только имена.
Вот примечательный местный тип — инвалид на тележке:
Он в очередь встает степенно
В ряду, где деньгам знают цену
Где дух расчета не ослаб.
Старуха, расстегнув шубейку,
Покорно достает копейку
Рукой, коричневой как краб.
Стихи эти 1969 года — отклик на стихотворение Вадима Черняка, написанное годом раньше, где, несмотря на то что и рынок другой, и год не послевоенный, те же типы, не выветренные временем, девицы, инвалиды, торговцы, бабы. Общность подтверждается и строфикой, и прямым совпадением рифмы:
Вот боевик про Авиценну —
здесь даже книгам знают цену;
первач и волжская земля,
цыганский бубен, шарфик куцый,
сухие семена настурций,
жизнь — от копейки до рубля.
(Цитирую по машинописной книге в том виде, в каком эти строки существовали на тот момент.)
Точно так же для истории литературы важно не удостоенное, к сожалению, ни статьи в энциклопедии, ни заметки в словаре литературное объединение “Магистраль”, где занимались в пятидесятые годы кроме таких именитых в будущем литераторов, как Булат Окуджава, и Юрий Смирнов, и Вадим Черняк, и Александр Аронов, у которого, в свою очередь, имеются переклички со смирновскими стихами. Составитель-комментатор сообщает, что их стихи о Сен-Симоне сравнивались и обсуждались в литературных кругах. Добавлю, что тема была как-то созвучна с настроениями эпохи, популярностью пользовалась песенка “Вставайте, граф, рассвет уже полощется…” в исполнении Юрия Визбора.
Перекличек, не только прямых, в стихах Смирнова очень много. Они рождены эпохой, можно сказать, “теснотой событийного ряда”, памятуя о выражении Ю. Н. Тынянова.
В стихотворении, посвященном нидерландскому художнику Хенри де Блесу, интенсивный черный цвет в картине которого стал предлогом суда над художником, говорится, что лишь через четыре века появилось мнение, что виной — зрение живописца.
Браво, доктор! Хвала уму!
Спит де Блес под зеленой травкой…
Как могла бы помочь ему
Запоздалая ваша справка.
Государственный спит совет.
Спят доносы и подозренья.
Жив шедевр — ненормальность зренья.
Все нормальны, а толку нет.
Написанное около 1964 года стихотворение, конечно же, напрямую связано с тем, что происходило вокруг. И справка, разумеется, не есть всего лишь ученый комментарий. Это еще и справка о реабилитации, выдаваемая тем, кто выжил, а чаще — родственникам погибших.
Впрочем, Смирнов не замыкается в кругу современников, и стихотворения его вряд ли верно считать аллегориями. Стихи о Царь-пушке, ради которой вражеские лазутчики в древности пробирались в Кремль, чтобы взглянуть на это чудовище, и которая не стреляет, отсылает к известному чаадаевскому парадоксу о символах России — не стреляющей пушке и не звонящем колоколе. Вывод, что пушка сия
Большая царская игрушка.
А царь-то был дураковат, —
опять-таки как бы аллегоричен. Но важнее исторических аллюзий упоминание об экскурсантах. На дворе 1963 год, как свидетельствует дата под стихами. Доступ в Кремль открыт совсем недавно.
Это одна из реалий времени, каких все меньше будет в стихах Смирнова, что не есть смена поэтики — точных деталей, мельчайших штрихов в избытке, — но само время расплывается, тускнеет, утрачивает приметы.
Лишь несколько постоянных образов проходят сквозь всю поэзию Смирнова, выстраиваясь в две линии, образуя два сюжета.
Цитировавшиеся выше стихи о курсантах, занимающихся физкультурой среди мраморных изваяний Летнего сада, — это аллюзия на пушкинское “В начале жизни школу помню я…”. Сад, мраморные скульптуры, курсантская юность будут появляться в разных стихотворениях, принимая те или иные обличия.
Пушкинское “В надежде славы и добра…” преобразится опять-таки в стихи о курсантских годах:
Глядел я в грядущее смело,
И в холод крещенский и в зной
Учился военному делу
И жизни не мыслил иной.
Через годы возвращение в Ленинград — это и хрестоматийная перекличка “И вновь я посетил…”, и возвращение к “петербургскому тексту”, как задан он был “Медным всадником”, вплоть до словесных формул:
Нева… На низких берегах
Великолепные строенья.
Я в том осеннем настроенье,
Когда от всяких дел в бегах.
По Летнему гуляю саду,
Листву опавшую топчу,
На черную гляжу ограду,
Стихи забытые шепчу.
Тут мрамор, взгляд куда ни кинь,
Богов античных и богинь.
И в этом, условно говоря, “пушкинском сюжете” вполне логичны казавшиеся некогда парадоксом строки, что поразили читателей “Дня поэзии” в 1966 году:
За гробом шел один Сальери
И под дождем стоял потом.
“Вариация на старую тему”, как назвал стихотворение автор, трактует не вопрос о гении и злодействе, а вопрос о смерти и забвении.
И тут следует вспомнить другой сюжет, “московский”. Проходят в стихах городские реалии: Сокольники, Арбат, Нескучный сад:
Сверну в Столовый переулок,
Увижу старый серый дом —
Щиты и копья на фасаде
И морды греческих коней.
И вспомню школьные тетради
И радости голодных дней.
Эти воспоминания, скажем, память о Собачьей площадке, где стоял особняк Музфонда, прибежище безвестных композиторов, кажутся ироничными — но только поначалу.
Шли они сюда за ссудой.
Дым струился над котельной.
На углу — ларек с посудой
Рядом с лавкой москательной.
Нет в помине тех построек.
Нынче здесь горят витрины.
Только дух былого стоек,
Точно запах керосинный.
Вспоминаю: жили-были,
Прочным все вокруг казалось.
Композиторы в могиле,
Музыка одна осталась.
Здесь “московский” сюжет смыкается с “ленинградским”: та же мысль о забвении обо всем, кроме свидетельства музыки.
Но “московский” сюжет трагичен. Автора, блуждающего то по Тверскому бульвару, то в каком-нибудь из арбатских переулков, вела судьба, предсказанная им в давнем стихотворном наброске, которому придала завершенность смерть.
Уйдет он, не воротится
Походкой воровской
По улице Воровского,
По бывшей Поварской…
Туда и выходит заднее крыльцо ЦДЛ.
Постепенно уточняясь, выстраивается поэтический образ мира, перерастая какое бы то ни было однозначное толкование.
Вот стихотворение “Дирижабль”, посвященное советскому символу тридцатых годов.
В синеве над моею страной,
Ждавшей хлеба и керосина,
Он летел, серебристый, большой,
К животу прижимая корзину.
Он парил нереальнее сна,
Каплей двигался по небосводу,
И тогда забывала страна
Про лишенья свои и невзгоды.
Трогательность, с которой дирижабль прижимает к животу корзину, требует сострадания:
Сетью схваченная пустота,
Облако в авоське огромной!
Жест, вызывающий сочувствие к дирижаблю, как вызывают сочувствие и люди, стоящие в очередях, держа в руках пустые авоськи.
Поэт видит и государственную машину, и результат ее работы — безликие кладбища, где на могилах стоят крест-накрест приваренные водопроводные трубы.
Сколько было их в Отчизне
И ушло: кто млад, кто стар.
Отработанные жизни
Растворились, точно пар.
Да и насчет себя он не заблуждается:
Я разделю века на семилетки,
Возьмусь, земную ось согну в дугу.
Я бьюсь в прозрачном пузырьке, как в клетке,
И вылезти хочу и не могу.
И пусть “прозрачный пузырек” (оставим нарочитую перекличку с пастернаковскими стихами “И разве я не мерюсь пятилеткой…”) можно толковать двояко, возможно, это какой-нибудь мыльный пузырь, этакий символ безоблачного детства, но больше образ напоминает о сцене из рассказа Г. Майринка “Человек в бутылке”, кстати, знакомого по русским переводам. Потешно кривляющийся человек, который вызывает у зрителей приступы смеха, кривлялся, потому что ему не хватало воздуха. В конце концов он задохнулся.
И все же Смирнов бежит от трагизма. Он может быть остро ироничен, как в поздних стихотворениях, может отчетливо чувствовать бессмысленность жизни, но резонерство или гамлетизм ему чужды. Эксцентрика, с какой он рисует собственный портрет, — это эксцентрика обстоятельств, а не мироощущения.
А я гляжусь в блестящий чайник,
И на поверхности его
Меня волнует чрезвычайно
Забавнейшее существо.
Как жерла ноздри, щеки гладки,
И плотоядно рот разъят,
И где-то на макушке глазки,
Как две горошины, сидят.
Тут уместно вспомнить и автопортрет Александра Кушнера, обычного городского жителя, по его собственному утверждению:
Под сквозными небесами,
Над пустой Невой-рекой
Я иду с двумя носами
И расплывчатой щекой.
И старательно прозаизированный автопортрет Бориса Слуцкого — “краснорожий, дошлый, ражий”. Но слышится тут и двойная цитата из В. В. Розанова — вызывающий портрет автора “с выпученными глазами и облизывающийся” плюс ответ на извечный вопрос, что делать: “Варить варенье, а зимой пить с ним чай”.
Пожалуй, абсолютная нормальность и опасение ее потерять и мешали Смирнову оставить инженерство и стать профессиональным литератором. Между тем он, судя по всему, серьезно задумывался над своим положением, своеобразно выстраивал последовательность стихов. Так стихотворение “Выси бледные светлы…” заканчивает книгу “Обруч” и открывает книгу “Времена года”, — и это не случайность. Но имеются и сомнения: “Меня не устраивает поэзия того кружевного направления, когда все, что увидено, — описано (иногда с большим вкусом), и описания нескончаемы. К середине забываешь, с чего началось стихотворение. Его можно прервать в любом месте, но ничего существенно не изменится”.
То же неприятие присяжного стихотворства и в стихах
Профессионалы… Запах пота
В раздевалках. Надобно понять:
Это ведь нелегкая работа —
На зеленом поле мяч гонять.
Как указал комментатор, Вадим Черняк некогда был футболистом, отсюда футбольная тема. И Смирнову (в меньшей степени), и Черняку, и Аронову (список можно длить) мешали издаваться, а потому вопрос о профессионализме переходил в область самоуговоров, во враждебных обстоятельствах пробовали отыскать и нечто положительное. Дилетантам интересно их занятие.
Вы играете самозабвенно,
Мил мне ваш младенческий азарт,
Вы вперед стремитесь непременно!
(А потом толпою всей — назад.)
Мечетесь по полю оголтело,
Вам побегать лишь бы, поорать.
Профессионалы знают дело.
Крепко знают. Скучно им играть.
Кстати, уточним еще один комментарий. Стихотворение “Шекспир сюжеты воровал…” с бравурной концовкой:
Когда бы доходили руки,
Закрыл бы Скотланд-Ярд и МУР.
Воруйте, милые, воруйте,
Чета честнейших братьев Тур, —
означает не то, что “лучше уж заниматься плагиатом, нежели создавать собственные, но весьма скучные творения”. В стихах отразилась запечатленная и окололитературным фольклором “титаническая” битва между Иосифом Прутом и братьями Тур, которые оспаривали долевое участие в общей пьесе, следовательно, право на гонорар.
Несмотря на неточности, и Г. Лукомников, выступивший составителем и комментатором, и издатель В. И. Орлов, чьими стараниями увидел свет также сборник Е. Кропивницкого, достойны всяческих похвал. Книга замечательна, и то, что вобрала она около половины стихотворений Смирнова, дает возможность надеяться на второй том, ведь, как отмечалось, произведения его в большинстве случаев равноценны, а потому следующий сборник был бы не хуже (пробовал Смирнов писать и прозу).
В благодарность энтузиастам, вернувшим читателям необыкновенного автора, приведу сведения, им наверняка неизвестные, но могущие пригодиться. Ставшее песенкой стихотворение
По утрам в поликлиники
Спешат шизофреники.
Среди них есть ботвинники
И кавказские пленники, —
пелось не только в узком кругу, его исполнял на концертах Евгений Клячкин, предваряя словами: “Еще одна фишка”. “Вариация на старую тему”, за исключением одной строфы, цитировалась в № 6 журнала “Октябрь” за 1996 год, а стихи “Однажды загорелась пожарная охрана…”, как представляется, имеют другой вариант. Ныне покойный Ян Гольцман, тоже посещавший литературное объединение “Магистраль”, читал их иначе:
— Кто говорит?
— Пожарная контора.
— А кто горит?
— Пожарная контора.
— Так говорит или горит?
— Горит и говорит!
Это вряд ли аберрация памяти Яна Гольцмана; подтверждает мою догадку и то, что некоторые стихотворения Смирнова имели варианты, написанные разными размерами. Вдруг и эти стихи отыщутся в чьей-либо памяти, найдутся, чтобы воссоединиться с другими стихами поэта. Как знать. Стихи — такая материя!..
Марина Краснова
Журнал «Новый мир» 2005, № 9
|