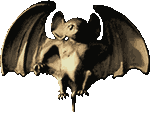| |
 «Морфология страха» «Морфология страха»
(круглый стол)
18 апреля 2005 г., Самара, Дом ученых
Участники «круглого стола»:
- Бибикова Дарья Андреевна – аспирантка Института филологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (Киев, Украина)
- Бирюкова Елена Евгеньевна – аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета
- Голубков Сергей Алексеевич – д.ф.н., профессор, заведующий кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета
- Гринштейн Аркадий Львович – д.ф.н., профессор Самарского государственного педагогического университета
- Житарь Анна Александровна – студентка Самарской гуманитарной академии
- Журчева Татьяна Валентиновна – к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета
- Заломкина Галина Вениаминовна – к.ф.н., ст. преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета
- Зацепин Константин Александрович – аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета
- Казарина Татьяна Викторовна – к.ф.н., доцент Самарской гуманитарной академии
- Кривонос Владислав Шаевич – д.ф.н., профессор Самарского государственного педагогического университета
- Лехциер Виталий Леонидович – к.филос.н., доцент кафедры философии гуманитарных факультетов Самарского государственного университета
- Немцев Леонид Владимирович – к.ф.н., доцент Самарской государственной академии культуры и искусства
- Перепелкин Михаил Анатольевич – к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета
- Саморуков Илья Игоревич – аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета
- Саморукова Ирина Владимировна – д.ф.н., профессор кафедры русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета
- Тырышкина Елена Викторовна – д.ф.н., профессор кафедры теории литературы Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск)
Голубков С.А. Уважаемые коллеги! Продолжим наш разговор в русле уже намеченной тематики. Поговорим о страхе в структуре современного сознания и в мире, о жанровых формах. Во время пленарного заседания мы уже коснулись многих аспектов. Сейчас стоит бросить несколько рубрик, подтем, которые позволили бы развиваться мысли дальше. Ну, например, страх и свобода , как они соотносятся, страх и соблазн и т.д. Называйте, предлагайте ключевые позиции, вокруг которых мы и будем строить свои высказывания. Лехциер В.Л. Дорогие коллеги, стоит определиться, в рамках какой дисциплины мы действуем. Мы находимся все же на филологической конференции, но если я начну говорить, то невольно переведу тему в философский аспект.
Перепелкин М.А. Вас сюда и пригласили именно потому, что вы философ.
Лехциер В.Л. Понятно. Тогда мы будем ставить проблему в целом, отталкиваясь от того, что все мы все же здесь собрались по поводу литературы. Может быть, стоит поставить вопрос так: а может ли быть литература, литературное слово страшным? Это парадоксальная формулировка вопроса, ведь действительно, с одной стороны, есть жанры, специализирующиеся на тематизации страха, но с другой – все это страхи уже репрезентированные, обработанные, и нам, скорее, как бы «страшно», то есть это страх символический. Может ли литература, либо по тому, как она выражает страх, либо по самому литературному опыту, как креативному, так и рецептивному восприятию, быть страшной? Можно было бы сказать: в литературе страх невозможен. Этот вопрос подобен вопросу о войне в литературе и искусстве: как только война становится предметом изображения, так трагическое начало теряется. Так же и здесь. Литература превращает страх во что-то другое, или нет? Или она имеет отношение к непосредственному человеческому опыту?
Заломкина Г.В. Это интересный вопрос. При моем опыте чтения «страшной» литературы, готических романов, я, честно говоря, думала, что меня ничем не испугаешь. Но когда я читала рассказы английского писателя Монтегю Джеймса, мне было страшно по-настоящему. А вот уже после чтения я стала задумываться: а было ли мне страшно? Возникает вопрос, как мы понимаем страх. Есть, видимо, страх в пределах произведения, и есть страх онтологический, то есть объективный. Насколько я могу судить, напугать человека с помощью литературы возможно, актуализировав страх, который присутствует в его сознании. Именно не путем отражения реального страха, а через сочинение своего собственного.
Голубков С.А. То есть литература в качестве усилителя…
Заломкина Г.В. Литература в качестве или усилителя, или проявителя, или генератора страха, причем страх далеко не всегда будет только игрой. Возникает вопрос о читателе, о его опыте – жизненном опыте и опыте чтения подобной литературы.
Журчева Т.В. Речь может идти и о таких случаях, когда художник стремится вполне сознательно вызвать страх, вызвать отторжение у читателя от художественного мира. Я имею в виду жанр антиутопии. Способ воздействия на читательское сознание именно такой: не просто на уровне рационального определения «это плохо», а «это плохо, потому что страшно». Недаром появление знаменитого романа Е.Замятина «Мы» предварила статья писателя под названием «Я боюсь», то есть исходный момент здесь – ужас перед тем миром, который наступает. По-моему, есть примеры вполне целенаправленного моделирования страха в литературе.
Казарина Т.В. Почему нельзя сказать наоборот: страх предметный, реальный оказывается «упакован» в какую-то форму и тем самым преодолевается. Что-то подобное произошло с советской эпохой: угроза тоталитаризма миновала, и появилась мода на все советское, то есть происходит эстетизация страшных реалий.
Журчева Т.В. Когда это в ретроспективе, наверное, да. А когда это дано нам как возможное будущее?
Казарина Т.В. Но в пределах произведения этот страшный мир уже есть как целое. И возникает не страх, а, скажем так, созерцательность, эстетическая дистанция. Антиутопия в этом смысле очень успокоительный жанр.
Бибикова Д.А. Я хотела бы привести пример, который относится скорее к фактам массовой культуры. Известный фильм «Матрица» – это ведь тоже «предупреждение о будущем». Это как раз пример того, когда фильм вызывает страх, с одной стороны, а с другой – сам момент страха снимается, потому что он предстает игрой, правила которой устанавливает человек, игрой вплоть до стиля или моды в одежде и т.д.
Саморукова И.В. Получается, что литература, побуждаемая страхом, мгновенно страх одомашнивает, кодифицирует его, то есть литература сама по себе как бы бесстрастна, хотя мы, читатели, при чтении страх так или иначе испытываем.
Бибикова Д.А. Вспоминается одна статья Ролана Барта по поводу одной известной фотовыставки, посвященной войне. Так вот, там, по мысли Барта, зрители все воспринимали через призму автора, но подлинный страх возникал при взгляде на те изображения, где имелось «свободное пространство» толкования.
Страх вообще состоит из нескольких слоев, из объективного и необъективного
Лехциер В.Л . У нас вырисовываются две точки зрения. Первая заключается в том, что литература провоцирует страх – действительно, существуют жанры, которые строятся на интенции страха (тот же готический роман). Вторая точка зрения: в момент изображения литература страх снимает, и человек всегда его получает в эстетической оболочке. То есть литература страх симулирует, превращая страшное в нестрашное.
Зацепин К . Мы все время говорим о каких-то страшных реалиях, об объективном мире. Но надо принимать во внимание и саму литературность страха: само словесно-риторическое обрамление может быть страшным, когда мы находим в тексте какие-то очаги непонимания, намеренные затемнения. Страх в этом случае вызван непониманием, а реальных страшных деталей может и не быть. Насколько продуктивна такая постановка вопроса?
Немцев Л.В. Мы все-таки должны говорить о том, что такое сам страх? Под формами страха следует, видимо, понимать те формы жизни, которые жестоки, ложны и которые нельзя исправить. Обыватель пытается закрыться от них. Это страх иррациональный, может быть… Хотя здесь есть элемент заигрывания с ним. Заметьте: обыватель смотрит «ужастики», но не смотрит серьезных фильмов о реалиях войны и т.д. Речь идет о том, что в страшном заложены неправильные формы сознания, а литература раскрывает их неправильность.
По поводу фильма «Матрица»: после его показа мировые философы созвали семинар (там присутствовал, например, Жижек), на котором всерьез обсуждался этот фильм. Было отмечено, что наконец-то в обывательском сознании появилось слово, обозначающее понятие, о котором мировая философия говорит уже лет двести.
Лехциер В.Л . Позвольте дополнение. В первых кадрах «Матрицы» фигурирует книга Бодрийара «Симуляция и симулякры». Причем сам Бодрийар был приглашен на просмотр, и после дал интервью. Его спросили: этот фильм – иллюстрация вашей философии? На что он ответил, что, конечно же, нет, это недоразумение. В фильме просто интерпретировали одну из идей о зыбкости границы между реальностью и нереальностью.
Немцев Л.В. Возвращаясь к теме, хочу заметить, что все писатели так или иначе работали с неправильными формами сознания, со страшным. Например, Кафка. Это история Грегора Замзы ужасна, его отторгают от жизни самые близкие люди, родственники. Но после прочтения мы обретаем полноценность, мы можем эти формы ужасного увидеть и смеяться над ними. По сути, формы страшного преодолеваются в литературе.
Бирюкова Е.Е. Помимо обывательского наивного страха есть еще читательский страх не найти себя в этом тексте, не найти его целостность. В этом смысле литература вся чревата страхом, она его продукт: есть страх автора перед исчезновением, поэтому возникает желание запечатлеть себя в тексте, продлить свое физическое существование, и есть страх читателя, наблюдающего этот материал и тоже желающего найти свою целостность в этом тексте, выстроить коммуникацию.
Любой текст страшен, даже если он не таков на уровне объекта и по жанру. Всегда читателю предлагается некая концепция мира, которая опасна парадоксальным столкновением ожидаемого и действительного, их несоответствием.
Казарина Т.В. Я бы сместила акценты. По-моему, становится страшным тот текст, который абсолютно завершен и не может дальше развиваться, не дает двигаться читательскому сознанию и предлагает покориться. А мое восприятие не готово останавливаться.
Голубков С.А. Не совсем согласен. Как раз когда все понятно и ясно, страх не возникает… Вспомните: была фотовыставка, посвященная войне. И вот среди очень натуралистичных изображений была такая фотография: сидит кошка на пепелище, где когда-то был дом. Нет ничего сверхужасного, нет ни обугленных трупов, ни людей-скелетов из концлагеря, но вот эта кошка потрясает воображение гораздо сильнее.
Саморукова И.В. Здесь возникает символическое значение, но сама кошка реальна.
Голубков С.А. Да. Мы все домысливаем историю этого сгоревшего дома, и сотворчество порождает страх.
Журчева Т.В. Мы все же должны развести два понятия: страх как средство воздействия на читателя, который избирает автор, и страх читательский – на уровне самого восприятия. Они не всегда совпадают, всегда есть «ножницы», потому что восприятие индивидуально, но кажется, имеет смысл говорить о том, что художник в некоторых случаях стремится программировать результат. Целесообразно здесь сосредоточиться на этом авторском «посыле», когда страх намеренно нагнетается и провоцируется, о чем я уже говорила. Хотя в художественной практике восприятие и творчество тесно слиты.
Лехциер В.Л . Это вопрос из области креативной эстетики. Вообще же креация и рецепция образуют единое целое, по структурным и сущностным моментам они совпадают. Вот вопрос: когда я пишу страшный рассказ, мне самому страшно или нет? Ведь я в этот момент – реципиент собственного текста. Любопытно, кстати, что испытывают авторы «ужастиков»: страх или смех?
Журчева Т.В. Не знаю, как в процессе написания текста, но до работы над ним автор точно испугался. Я, конечно, имею здесь в виду все-таки не триллеры, которые вовсе, с моей точки зрения, не так уж и страшны, а произведения того же Кафки или Достоевского. Структура текста возникает и оформляется благодаря желанию страх проанализировать и распространить. Катарсис, сострадание, которые основаны на страхе – это могло бы случиться и со мной, и чтобы страх понять, надо его испытать. Иначе его нельзя ни преодолеть, ни выразить.
Лехциер В.Л. Согласен. Получается так: есть писатель, которому страшно. Он начинает свой опыт выражать на бумаге, но тут возникает странная вещь: ведь опыт на самом деле невыразим, его нельзя уловить и зафиксировать! Мы сталкиваемся с глубинным онтологическим изъяном. Как только я произношу «тишина!» – тишины уже нет, как только я говорю «страх», мне не страшно, как только я говорю «ужас» – а в ужасе уже ничего сказать нельзя, это вообще какая-то безъязыкая категория, немой опыт, – возникает слово. Но в итоге, как только я выразил этот опыт, я его изжил для себя, но при этом остается след страха…
Журчева Т.В. Страх становится достоянием другого лица.
Заломкина Г.В. Кстати, по поводу изживания личного опыта. Я вспомнила биографию Брема Стокера, того самого, который подарил миру графа Дракулу. Самое интересное, что корни ужаса у Стокера и у Кафки (!) совершенно одинаковы в биографическом смысле: считается, что и у одного, и у другого реальной подоплекой страшных образов, глубокой раной, полученной в детстве, были взаимоотношения с отцом. У обоих писателей, по свидетельству биографов, историков литературы, был отец жестокий, деспотичный и т.д. И Кафка, и Стокер были фантастами – в широком смысле, по категории Тодорова, и они не написали открыто, в реалистическом или мемуарном плане об этом, они изживали свой страх через фантастику, так, что это нашло воплощение в символических образах, трансформировалось в то, чего не бывает в реальности, но что способно испугать не меньше.
Зацепин К.А. Можно, конечно, говорить о страхе с точки зрения психоанализа и рассматривать комплекс страха перед отцом, перед кастрацией и т.д., но все же надо разграничивать разные задачи. Если мы философы, нас интересует онтологический статус страха или его отсутствие, если мы литературоведы, мы должны изучать механизмы кодирования, формы перевода страха в образный язык, и в нем не только выраженный опыт. Давайте определим точки зрения.
Саморукова И.В. Так ведь и фигура отца, и кастрация в психоанализе – это тоже символический, образный язык, только другой.
Зацепин К.А. Важно лишь то, что все эти смыслы конструируются постфактум, а что было до текста, мы говорить не можем.
Бибикова Д.А. Я хотела бы обратить внимание на один любопытный факт современной литературы: не так давно одна современная французская писательница написала книгу, где было абсолютно точно рассказано, как над ней издевались в детстве. Эта книга произвела сенсацию силой того впечатления, которое заключалось в этом ужасе. Здесь намеренно не было избрано никакого символического языка, и возник любопытный эксперимент по абсолютной вербализации страха, когда автор просто «выплеснул» на аудиторию все, что он пережил. И те, кто ее раскупил, возможно, сами попытались от своего страха избавиться.
Лехциер В.Л . Но все равно же это литературная форма.
Саморукова И.В. Однако здесь все же любопытна реакция читательской аудитории: книга стала бестселлером именно потому, что она очень многих испугала.
Кривонос В.Ш. Нам все же следует определиться с предметом разговора. Категория страха расплывается, смешивается с отвратительным, не отделен страх в жизни и страх в литературе и т.д. Говорить о страхе вообще, по-моему, бесперспективно.
Голубков С.А Тема заявлена как «страх в структуре мира», то есть в широком смысле.
Журчева Т.В. Тогда давайте сначала обозначим структуру мира.
Лехциер В.Л . Точнее было бы сказать так: «страх и литература». Речь идет о креативном и рецептивном процессах, когда творческий импульс задан реальностью, но его перенесение в литературу и восприятие читателем оказывается равнозначным творчеству.
Кривонос В.Ш. Мое замечание – это всего лишь интеллектуальная провокация, которая может вывести нашу беседу на новый виток. Рецепция и креация – удел эстетиков, в литературоведении этот вопрос решить нельзя – никто на самом деле не знает, о чем думает автор на стадии творчества.
Есть страх, который изображен, то есть служит предметом авторской рефлексии. Возникает вопрос, способно ли такое произведение напугать? Возьмем страшные сны Раскольникова: они страшны, но где и как? В пределах романа или же онтологически? Страх – ведь это не то, что только пугает, страх может поддерживать человека – страх Божий, например. Это очень важно для мира того же Достоевского. Значит, страх может быть продуктивным?
Что касается жанровых форм страха, то они очень активны и в древней литературе, начиная с античности и вплоть до Средневековья – изображения ада, мук грешников и т.д. Наверное, в живописи была установка испугать, а вот есть ли она в литературе? У Гоголя в его известной повести рисуется портрет, который пугает многих героев, но остается ли этот страх в пределах изображенного мира или нет? Языки страха тоже очень важны. Кстати, Петербургский университет недавно проводил конференцию с таким названием – «Языки страха» , но и там, по моим наблюдениям, само понятие расплывалось. Это действительно сложная тема. Последний пример, на котором я хотел бы остановиться, – это пьеса Чехова «Чайка». Внутри пьесы есть текст, определенно рассчитанный на то, чтобы вызвать страх. Герои не слышат друг друга, реплики идут мимо, возникает страх бесцельно прожитой жизни, а пьеса заканчивается самоубийством. Герои испытывают страх жизни, при этом кому-то страшно, кому-то нет, как Нине Заречной, и т.д. Вот тема для дискуссии.
Журчева Т.В. Нине Заречной тоже страшно. Через страх воспринимается то место, куда она стремится .
Голубков С.А. Наверное, следует говорить о коэффициенте ожидаемости страха. Здесь дело обстоит почти так же, как и со смехом: чем он неожиданней, тем лучше. Ожидаемый страх, сконцентрированный в тех же триллерах, – это нечто родственное развлечению на «американских горках». А вот когда внезапно человек открывает бездну страха, оказываясь перед ничто …
Житарь А.А. Стоит развести страх предметный и беспредметный. Предметный как раз очень часто эксплуатируется массовой культурой, человек любит, когда страх опредмечен, а вот когда не ясно, чего же надо бояться, возникает проблема. Так же и у Чехова. Сама основа бытия подвергается сомнению, и человек либо имеет возможность построить новую картину мира, либо нет. Имеет смысл, мне кажется, поговорить о страхе беспредметном.
Саморукова И.В. Современная культура и занята опредмечиванием страха. В благополучной стране обывателю, в общем, нечего бояться, хотя есть традиционные предметы опасения: пожар, теракт и т.д. Обыватель стремится к страху в товарной оболочке – те же самые экстремальные виды спорта. В современной культуре мы не найдем текста, который говорил бы о голой метафизике.
Журчева Т.В. Вспомните пьесы Евгения Гришковца. Герой пытается страх опредметить, текст выглядит как бытовой и очень даже предметный, но эта метафизика как бы ускользает сквозь пальцы, ее нельзя выразить, она не поддается опредмечиванию.
Саморукова И.В. Метафизически страх – это и есть боязнь Ничто, которое так или иначе пытаются опредметить.
Журчева Т.В. Каждый человек – и в этом особенность современного сознания – даже в очень благополучной стране может стать жертвой пожара, наводнения, теракта, взрыва ядерной бомбы и чего угодно. Замкнутость в философской формуле еще не означает исчерпанности темы, и она продолжает волновать искусство. Даже простой обыватель переживает это, хотя, конечно, он далек от философии.
Лехциер В.Л. Самый высокий процент самоубийств, например, во время Второй мировой войны, был в Швеции – в очень благополучной и нейтральной стране.
Журчева Т.В. Для чего художник использует этот момент страха? Для содрогания.
Кривонос В.Ш. Так могут быть разные формы страха, мы это уже отмечали. А для религиозного человека страх – вечный спутник, без него нельзя жить.
Саморукова И.В. Кстати, очень часто страх вызван какими-то совершенно не страшными образами: у Набокова в «Отчаянии» источник страха – непонятные отвратительные белые собачки, у Достоевского ужас тоже вызван совершенно обытовленными мелкими, мерзкими вещичками. Я все-таки подчеркиваю, что в современной культуре вся метафизика настолько кодифицирована и одомашнена, что страх уже приглушен, он воспринимается рационально.
Кривонос В.Ш. У меня возникла другая тема: почему власть боялась Солженицына, или, например, диссидентов?
Саморукова И.В . Потому что она видела в них конкурентов. Хотя, скажем, в описании той же лагерной жизни гораздо страшнее, может быть, тексты Шаламова. Солженицын прекрасно знал механизмы насилия, на которых держится любая тоталитарная власть, и обнажал их в своих произведениях. А вообще это очень интересная тема: почему власть боится некоторых текстов и требует цензурного запрета, даже и в наше время?
Немцев Л.В. Причем власть пытается контролировать даже те тексты, которые и не содержат против нее прямых выпадов. Классический пример – Пушкин. Заметьте, любая власть пытается его ассимилировать и убедить общество, что оно знает о нем все – чтобы не лезли глубже.
Действительно, сейчас трудно найти формы шокирующего неожиданного страха. Наша проблема – знание о страшном. Мы боимся того, с чем так не хотим встретиться. Обыватель стремится закрыть на это глаза, серьезные интеллектуальные формы культуры, наоборот, пытаются это анализировать. Если исходить из философии морали, страшное – это неправильные формы сознания, я повторюсь.
Саморукова И.В . А вот маркиз де Сад и его сочинения – это правильные ил неправильные формы сознания?
Немцев Л.В. В этом-то и парадокс. Если мы возьмем его произведения, скажем, «Философия в будуаре» – по структуре это типичная нравоучительная повесть, которая заканчивается тем, что совращенная девушка убивает свою мать. Можем ли мы сказать, что сам автор воспевает страшное, или он его как-то культивирует?
Кривонос В.Ш. Я бы поспорил, насколько этот текст рассчитан именно на эстетическое восприятие. Давайте вернемся к Чехову, который произвел переворот в понимании страшного. У него страх вызван абсолютно бытовыми образами повседневной рутины жизни – страшна сама жизнь в ее самых простых и знакомых обличьях, а страшное как таковое не изображено.
Перепелкин М.А. Готовясь к конференции, мы обратились в ряд школ с просьбой предложить детям нарисовать картинки на тему «у страха глаза велики». Но администрация запретила это делать, видимо, никто, кроме учителя, не имеет права видеть это. Но это так, реплика в сторону.
Не случайно у нас сложилось впечатление, что при всех различиях позиций, все говорят примерно об одном и том же: правы и те, кто говорит, что литература не знает страха, и те, кто говорит, что литература – продукт страха. Я бы сказал, что литература и есть страх. Когда я готовился к конференции, я опирался на то понятие, которое разрабатывает Мераб Мамардашвили. Он отмечал, что страх – это своеобразный путь к вершине. Психофизиологическое существо, которое лишь стремится быть человеком, переживает страх не воплотиться, «недоочеловечиться», и перед ним в равной степени есть как возможность быть человеком, так и вероятность им не осуществиться. Страх – это осуществление, рождение, переход. Есть память о страхе, как в глубине сознания может сохраниться память о рождении. Не важно, «страшна» ли литература в прямом смысле или нет – она всегда идет по следам этого страха. И тогда страх, страдание, страсть оказываются вместе и это – вещи неизбежные.
Голубков С.А. Страшно очень часто не то, что опасно, а что непонятно. Горький вспоминает: как-то Толстой попросил его рассказать страшный сон. И тот сказал: пустые сапоги, идущие по снежному полю. Толстой согласился: страшно! Что это? Нет ведь ни убийства, ни других опасностей, но страх есть.
Кривонос В.Ш. Страшное в литературе понимается по-разному и меняется. Что меняется в механизме страшного, как в тематике, так и в способах, по сравнению с ушедшими эпохами?
Голубков С.А. Безусловно, в современной культуре сильнее обозначен страх перед достижениями науки – сколько фантастических книг и фильмов об этом создано: какие-то мутанты, вирусы…. Это страх перед самим собой, перед собственными возможностями интеллекта, который может привести к мировому господству зла.
Саморукова И.В. Одним из первых, кто ввел другое изображение страшного в современной литературе – это Шаламов. Этот протокольный сухой язык, которым ведется повествование, как бы выносит за скобки все символическое и действует на воображение гораздо сильнее, хотя для субьекта внутри этого мира нет ничего страшного.
Саморуков И. Страх вызывается самыми неожиданными образами. Вспомните тех же обэриутов, которые намеренно рассуждали о страхе перед насекомыми и пытались этот страх объяснить, передать другим, или того же Кафку. Говоря о репрезентации страха, следует сказать о той роли, которую играют совершенно определенные риторические элементы, воспринимаемые как знак страшного. Например, у Лавкрафта это молчание. В одном из рассказов люди спускаются в пещеру, один спустился на недосягаемую глубину, а другой сохраняет с ним связь только по рации. И вдруг тот, невидимый, кричит, а другой недоумевает, что там могло случиться. Потом все погружается в молчание. Так же и с насекомыми – это уже привычный знак страшного. Не случайно в древних культурах один из сакральных образов ужаса – это богомол. Насекомое, очень похожее внешне на маленького человека, но очень жестокое.
Журчева Т.В. Любой конкретный страх – это просто толчок к символическому художественному обобщению, не важно насекомые это или мышь.
Кривонос В.Ш. У Гоголя в «Вечерах» изображается много «фольклорного» страха, но он часто не востребован читателями. Тот, кто не верит в эти силы, тому нет смысла входить в этот мир и переживать страх. Где та позиция, который должен занять читатель, если даже в самом мире произведения страх запрограммирован как некая установка? Уже и во времена Гоголя типографские наборщики смеялись, работая с текстом «Вечеров».
Саморукова И.В. А сейчас, по-моему, вообще невозможно современного читателя испугать «страшной» литературой 19 века.
Немцев Л.В. Страх делается нестрашным, мы об этом уже говорили. И именно поэтому становится невозможным катарсис. Страшное в лучшем случае тяготит, в худшем – им начинают наслаждаться Яркий пример – недавно показанный фильм Гибсона «Страсти Христовы». В течение всего фильма натуралистически изображаются ужасные мучения не Бога, а человека, и никакого очищения не происходит. И люди испытывают сострадание, но оно очень проблематично, за катарсис здесь принято садистское переживание, шок от натурализма. Кстати, у Сорокина, который к «страшной» литературе все-таки относится, страшное доводится до высшей степени абсурда и саморазрушения, неэстетическое на самом деле выражает патологический эстетизм. А вот в фильме подчеркивается, что эти мучения вечны и преображения нет.
Саморукова И.В. Страшное вовсе не противостоит эстетическому. Причем в настоящее время значительная проблема этого жанра – «сглаживание» переживания с помощью визуального образа. Нечто подобное произошло с порнографией: как только появилась возможность смотреть на это в фильмах «живьем», в литературе порнография мгновенно исчезла, стала неинтересной. Сильная визуальная репрезентация оказалась убийственной для некоторых литературных форм.
Саморуков И.И. Но, с другой стороны, устные страшные рассказы действительно способны испугать – вспомните все эти былички или страшилки, которые рассказывались в пионерских лагерях на ночь.
Тырышкина Е.В. Я вижу чисто литературоведческую проблему: какие содержательные моменты страшного, отвратительного, кощунственного поддаются эстетической переработке? Ситуации классического катарсиса все поддается, подчинется, происходит преображение и т.д. Что касается ужасов в кинематографа, они работают на психофизиологическом уровне. Мы привыкли говорить о трагическом, комическом катарсисе, правомерно говорить и о том, что любое подлинно высокое произведение искусства дарит нам катарсис. Но возникает вопрос: есть у нас сейчас классический цельный катарсис, или нет? По-моему, былое равновесие уже невозможно. В том же авангарде мы наблюдаем перекос, разлом: возникает смех там, где смеяться нельзя, противоречия не совпадают и не снимаются. И это моделируется специальными приемами в тексте.
Казарина Т.В. Снимается и многое из психофизиологического страшного. Вот когда мы говорили о Солженицыне – верно было сказано, что власть видела в нем конкурента, но ведь не было здесь ни боязни, ни ужаса в прямом смысле, а простой прагматический расчет, решение технологической проблемы.
Саморукова И.В. Прямое, почти физиологическое воздействие в литературе не всегда можно кодифицировать, не всегда понятно, как это работает в плане выражения, но очень часто оно порождается какими-то мелочами, вплоть до обычной фразы. Пусть это не всегда в рамках эстетических категорий, но эффект очень сильный. Но он сделан как-то, из букв и слов.
Лехциер В.Л. Как различить страх как боязнь предмета, как тревогу беспредметную и как ужас? В связи с этим – можно ли говорить о литературе боязни, тревоги и ужаса? Ну, скажем, Чехов – это литература тревоги. Ведь нет там прямого изображения ужаса или ничто.
Журчева Т.В. Наверное, это справедливо, «тревога мира» у Чехова присутствует как бы в глубине, в имманентной форме.
Лехциер В.Л. Так можно ли говорить, что в разные эпохи преобладает или тревога, или страх, или ужас? Была ли, возможна ли литература ужаса как таковая? Насколько я понимаю, коммерческие жанры в этом смысле, скорее, литература боязни: за определенными традиционными образами закреплено значение страшного. Если мы знаем, что предмет вызывает ужас, то ужаса уже нет, как в случае тех же самых мышей и жуков.
Саморукова И.В. С жуками и мышами гораздо все сложнее. Никто ведь не боится мышь как таковую, боятся того, что за ней стоит.
Лехциер В.Л. Но все-таки: если можно так различать, то как все эти виды страха соединяются и существуют в современном сознании?
Перепелкин М.А. «Доктор Живаго» – это страшно? И если страшно, то как?
Кривонос В.Ш. Каждая литература определенной эпохи имеет свои представления на этот счет. То, что происходит в современной культуре, нередко смешивает формы насилия ос страхом, но ведь эти понятия не равны.
Саморукова И.В. Мне кажется, что в литературе ужаса можно назвать вполне конкретные имена. Например, Платонов – определенно литература ужаса, мир в его произведениях просто расползается, Шаламов – явно литература ужаса. А вот Солженицын – литература боязни, он описывает вещи, которые определены и понятно, почему их надо бояться.
Казарина Т.В. Тогда получается, что тоска, тревога – это экзистенциальные моменты переживания, а боязнь – психофизиологическое?
Лехциер В.Л. Нет, боязнь, видимо, может быть в одинаковой степени и животной, и символической, но она вызвана конкретным предметом.
Голубков С.А. Может, стоит поговорить еще и о таком моменте – о парадоксах страха. Ну, например, слон не боится львиц, но боится мышей. Отталкиваясь от этого образа, можно предположить, что есть какая-то сверхопасность, которую человек превозмогает, но при этом он может бояться какой-нибудь незначительной мелочи. Или такое явление, как узаконенность, обытовленность какого-либо страха. Можно приходить в ужас от действий серийного маньяка, но спокойно относиться к политическим технологиям, когда отправляются на тот свет целые народы.
Саморукова И.В. Это тоже страшно, но эти формы насилия кодифицированы и понятны.
Кривонос В.Ш. Вспомните те же самые нью-йоркские башни или Беслан, которые показывали всем нам по телевидению. Один критик в газете написал: «Это, конечно, страшно, но какая эстетика!». Это страшно, но это становится зрелищным! Мы становимся не просто свидетелями, а спокойными зрителями. Современная эстетика обладает теперь и такими средствами – все, что можно вставить в рамочку, говорят искусствоведы, воспринимается как картина. И в рамочку, оказывается, моно вставить все, что угодно, любые ужасы. Меняется ли что-то в современном мире в этом смысле?
Саморукова И.В. Страх притерпелся. Искусство сыграло здесь свою негативную роль: страшное, метафизическое так часто служило предметом изображения, что перестало потрясать воображение.
Голубков С.А. Если вернуться к нашей спонтанной классификации, видимо, в большой литературе особенно значимы формы тревоги?
Журчева Т.В. Да, и это проявляется гораздо раньше ХХ века. Романтики – одни из первых, кто почувствовал возможности и тревоги и страшного как проявления фантастического. Романтический мир – на грани катастрофы, он теряет гармоническую целостность.
А у Пушкина? «Борис Годунов»? «Маленькие трагедии»? Другое дело, что там все же присутствует некая попытка упорядочения, восстановления целостности на авторском уровне, только не получается это в полной мере. А «Медный всадник»?
Лехциер В.Л. Это не тревога. Тревога – следствие эмансипации и нарастания отчуждения, и для Пушкина вряд ли это было так актуально.
Журчева Т.В. А мне представляется, что «Медный всадник» здесь вполне адекватен, так как дело ведь не в том, что говорит автор или испытывает Евгений, а что выносит читатель. Читатель сталкивается с неразрешимой проблемой: везде своя правда.
Гринштейн А.Л. Возможно ли другое действие: литература вызывает страх перед реальностью. Мы уже говорили об антиутопии, о том, что она, скорее, преодолевает страх. Но ведь наряду с замятинскими формами есть еще антиутопия вроде «Москвы 2042» Войновича. И вот там вроде бы нет ничего страшного, но какие-то явления действительности воспринимаются как страшные именно потому, что получили вербальное выражение в тексте. Можно вспомнить и Илью Кабакова. Иначе говоря, многие вещи становятся страшными, осмысляются как страшные после того, как уже получили воплощение в художественном тексте, может быть, и не им посвященному.
Вновь возникает проблема соотношения языка и реальности.
Лехциер В.Л. Вот интересно: существует комические жанры со своими законами, и есть литература страха, о которой мы говорили сегодня. Возникает вопрос: какие еще чувства стали институциональными в литературе, жанрообразующими, кроме страха и смеха? Получается, страх – привилегированная форма?
Голубков С.А. Страх охватывает кардинальные моменты жизни и смерти, и здесь очень широкие возможности для художественного изображения. В литературных воспоминаниях о знаменитом спектакле Мейерхольда гоголевский «Ревизор» заканчивался тем, что на сцену выносились манекены – вместо участников немого финала. И это еще вопрос, что воспринимается страшнее: кукла вместо человека, или человек, который застыл в одной позе.
Кривонос В.Ш. Хотелось бы вернуться к вопросу о продуктивности страха. Все-таки страх продуктивен или нет? Говорят иногда, что человек в ХХ веке страх утратил. Возможно ли приобретение чего-то нового, если происходит освобождение от страха?
Реплика: Страх напоминает о смерти, это необходимое для человека чувство, как необходимо ощущение боли, которое напоминает нам, что мы живем.
Голубков С.А. В ответ на реплику Владислава Шаевича: не только Суд Божий и страх перед ним напоминает о цели жизни, это может быть и суд совести. И вообще, если человек наполнил свою жизнь смыслом, исповедует высокий смысл своей жизни, то страх может присутствовать так боязнь чего-то не успеть.
Реплика: Страх позволяет осознать ценность жизни…
Голубков С.А. Ну что ж, коллеги, на этом я предлагаю закрыть сегодняшнее заседании круглого стола. Остальная тематика будет продолжена на конференции.
Материалы
«круглого стола»
подготовлены к.ф.н. А.В. Синицкой
|
|


 Главная
Главная Поэтика
Поэтика Обзоры и рецензии
Обзоры и рецензии Словарь
Словарь Фильмография
Фильмография Библиография
Библиография Интернетография
Интернетография Нужные ссылки
Нужные ссылки Мои работы
Мои работы Об авторе
Об авторе