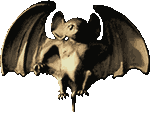| |
А. Е. Махов
 Фрагмент из книги Фрагмент из книги
Предисловие
История нашего «древнего врага» («hostis antiquus», как определяли его в латинской патристике) – ангела, который пал, стал дьяволом и заставил согрешить человека, – всем известна. Святые отцы первых веков христианства реконструировали ее главным образом на основе нескольких речений Священного Писания, скупых и противоречивых; с тех пор она рассказывалась бессчетное множество раз – богословами, агиографами, поэтами.
Совокупность этих текстов – богословских, агиографических, поэтических и т. п. – составляет корпус христианской демонологии (из которой мы исключаем то, что следует скорее назвать демономанией, с ее литературной продукцией – всевозможными пособиями по вызыванию дьявола и т. п.; а также народную демонологию в той мере, в какой она остается дохристианской).
История падшего ангела кажется чрезвычайно простой. Однако попытка рассказать ее связно, непротиворечиво и мотивированно тут же наталкивается на трудности. Уже самое ее начало таит в себе проблему, которую обнаружил св. Августин: если ангел-отступник разделял с другими ангелами блаженство виденья Бога и всех его путей (т. е. будущего) – то как он мог, предвидя ужасные последствия своего падения, пойти на преступление?
По мере нашего продвижения вглубь истории трудности умножаются. Где оказался ангел-отступник после своего падения – в глубинах ада или в воздухе (и то, и другое подтверждается новозаветными текстами)? Если он – в аду, то как он может быть, если верить другим новозаветным текстам, «князем мира сего»? Если он побежден и взят в рабство Христом – то как он может сам каждодневно побеждать и брать в рабство людей?
Так выясняется, что многократно рассказанную историю на самом деле рассказать невозможно. Рассказ предполагает линейное, поступательное движение – история же падшего ангела на каждом шагу открывает в себе варианты, альтернативы, распутья; для того, кто пытается в ней продвинуться, она с каждым шагом все больше становится похожа не некое сложное, запутанное сооружение – лабиринт, «сад расходящихся троп», или, быть может, готическую архитектурную вязь.
Вместо того, чтобы в очередной раз пересказать историю дьявола, мы попытались очертить ее морфологию – выявить ее несущие конструкции, показать, как она сделана и на чем она держится. Эти несущие конструкции мы сочли возможным определить словом «категории». Именно на уровне категорий обнаруживается основное структурное свойство истории падшего ангела – ее полная внутренняя противоречивость: в ней всё не сходится со всем, всё противоречит всему. Это, разумеется, не делает ее похожей на плохое оперное либретто, которое порой тоже затруднительно пересказать: противоречивость истории о дьяволе происходит не от бессвязности и немотивированности, но скорее напротив – от «сверх-связности», сверхмотивированности. Все связи и все мотивации существуют здесь во множестве вариантов, разночтений, разнопониманий. Так возникает эффект плотной смысловой полифонии – контрапунктического наложения противоположных смыслов, их сосуществования в одном образе, одном мотиве, – эффект, к которому осознанно стремилось средневековое воображение, не по случайности ставшее родиной и для полифонии музыкальной (об этом мы недавно попытались написать в книге: Махов. Musica Literaria. С. 91-117).
Эту особую противоречивость мы описываем как совокупность антиномий, главные из которых перечислены в соответствующей статье. Антиномичность, присущая всему средневеково-христианскому демонологическому мифу, отражена и в структуре статей о категориях, многие из которых выступают в виде пар полярных понятий: «беспокойство и покой», «дом и бездомность», «знание и незнание», «сила и бессилие». Эти достаточно отвлеченные категории обретают плоть в демонологической образности. Категориальное и образное переплетено в средневековом мышлении чрезвычайно тесно: отвлеченные понятия представлялись в конкретных образах (в тех же аллегориях), и напротив, – за индивидуальными, неповторимо причудливыми образами скрывались неподвижные универсальные идеи – зла, греха, смерти и т. п.
Категориально-образная конструкция, которую мы стремимся воссоздать в этой книге, – такое же грандиозное детище средневекового воображения, как романские и готические соборы, полифоническая музыка Перотина Великого, романы Кретьена де Труа или Вольфрама Эшенбаха; будучи в своем роде «Kunstwerk», произведением искусства, она не уступает им в смелости, размахе и причудливости.
Понятие «средневековый» нам приходится трактовать достаточно широко: ведь тексты, цитируемые в настоящей работе, простираются от апологетов первых веков христианства до демонологических трактатов XVI-XVII веков, в которых уже формируется новый, «рациональный» подход к проблемам демонологии, но в то же время и суммируется средневековый опыт.
Оправдание для такого расширительного толкования эпохи Средневековья дает нам сама демонология, в которой формирование и развитие новых идей происходило чрезвычайно медленно. Вся средневековая демонология, по сути дела, основывалась на сумме идей, выработанных в писаниях отцов Церкви: именно поэтому анализ их текстов занимает в нашей работе едва ли не главное место.
На наш взгляд, в развитии христианской демонологии можно говорить лишь о двух этапах: средневековом (от начала и примерно до XVI-XVII вв. – в эти два переходные века новые и старые идеи сосуществовали) и нововременном.
Фундаментом средневековой христианской демонологии служат тексты святых отцов; их идеи варьируются и расцвечиваются в агиографии (в частности, в таких монументальных агиографических сводах, как «Золотая Легенда» Якоба Ворагинского), в сборниках апофтегм (в том числе в постоянно цитируемых нами древних «Речениях старцев» – «Apophtegmata patrum»); воспроизводятся (без особых изменений, а часто просто дословно) в более поздних богословских трактатах; схоластика предпринимает довольно скучную попытку систематизации этих идей (но мы в неполной степени учитываем этот материал как принадлежащий уже сфере философии). В меньшей степени в демонологическом корпусе представлены «литературные» произведения: странствия (только в загробный мир или с заходом в загробный мир), видения, драматургические произведения и т. п.
Основной структурный принцип средневековой христианской демонологии – обратная симметрия: все инфернально-демоническое симметрично сакрально-Божественному, но с обратным ценностным знаком. Этот принцип проводится во всём, порождая порой довольно странные, с точки зрения современного человека, параллели: Христос умер в воздухе – но и ученик дьявола Иуда умер в воздухе (на дереве); дьявол, исчезая, оставляет после себя вонь – святой, умирая, оставляет приятный запах, и т. п. Обратная симметрия проецируется и в план диахронии, организуя ход Священной истории. Так, если дьявол обманул человека – то Христос должен обмануть дьявола; если дьявол победил человека – то именно человеком он сам должен быть побежден (так идея симметрии мотивирует принятие Христом человеческой природы), и т. п. Принцип обратной симметрии отражен и в иконографии: так, Иуда порой изображался с нимбом, как и святые, – но только с черным нимбом.
Образность средневековой демонологии подпитывается аллегорикой: многочисленные библейские реалии, имена, названия животных, истолкованные как аллегорические имена дьявола, пополняют длинный ряд дьявольских личин и обличий.
Важнейшие регулятивные идеи, определяющие смысловую структуру средневековой демонологии, – идея чужого, идея обмана и идея материально-низменного как преимущественной области дьявольского. Дьявол осмыслен как абсолютно чужой человеку, его онтологическая, космическая судьба – совсем иная, чем у человека: в онтологической географии мира ее вектор – сверху вниз (с неба в адскую бездну), в то время как вектор человеческой судьбы – снизу вверх. На какой-то момент и в какой-то точке дьявол и человек в своем разнонаправленном движении встречаются: этот момент и это место встречи – земной век и земной мир. С точки зрения средневекового человека, этот момент не слишком долог, а место встречи – не так уж значительно. Однако встреча все-таки происходит, и человек с «чужим» не только встречается, но и переплетается: какая-то часть человека и даже всего человечества также оказывается «чужой», дьяволовой. Отсюда – характерный для средневековой демонологии пафос очищения как отчуждения, отбрасывания части себя: дурные помышления и даже все «сердце», соблазняющий член и даже все тело или же даже вся совокупность грешников – это все нечеловеческое, чужое, подлежащее отбрасыванию. Грешники, в конечном счете, не люди, но демоны, дьяволы.
Для отношений дьявола, с одной стороны, и человека, Иисуса Христа и ангелов – с другой, важнейшее значение приобретает принцип обмана. Дьявола можно и должно обманывать; сам Христос, спрятав от него свою Божественность, совершил «благочестивый обман (pia fraus)».
Наконец, дьявол, – оставаясь в сознании средневекового человека «духом», сохраняя свою ангельскую природу, – ассоциируется тем не менее со всем материально-низменным. Он – царь материи, «первый земной», в определении Оригена, – первый, кто стал (до человека!) всецело земным существом; его мир – нечистоты, вонь, гниение. Человек подлежит власти дьявола лишь в той мере, в какой предает свою духовную составляющую и сам опускается в низменное царство бесов. Материальная сила дьявола ограничена теми грешниками, которые этой силе поддаются: так, демон может ударить святого вполне материальным мечом, но смирением святого этот удар будет обессилен. Материальное в средневековом мире имеет силу лишь там, где духовное уступило ему место.
Таков средневековый дьявол: абсолютно чужой человеку, обманутый, связанный с материальным низом мира и в целом сам по себе довольно слабый – силу ему дает лишь чужая, человеческая слабость.
В XVI-XVII веках в христианской демонологии происходят процессы, которые позволяют говорить о завершении средневековой традиции. Меняется уже и сам состав демонологических текстов: все больший вес в нем приобретают литературные произведения, все меньший – ученые трактаты, уходящие от традиционного богословия в сторону либо научной «рациональности» (как, например, «Очарованный мир» Бальтазара Беккера, 1691-1693), либо – в сторону «эзотерики», в итоге теряющей всякую связь с традициями христианской мысли (например, «Маг» Ф. Берретта, 1801).
Умирает аллегорика; исчезает интерес к симметричным построениям: теперь они кажутся наивными. В то же время дьявол перестает быть абсолютно чужим: он приближается к человеку, вочеловечивается. Первый признак этого процесса – ренессансный культ «личных демонов», в котором воспоминания о «демоне Сократа» сочетаются с совершенно новыми чертами (см. ниже соответствующую статью).
Как ни странно, но в том же направлении к вочеловечиванию дьявола двигались и богословы, пытавшиеся доказать, что он – лишь символ гнездящегося в человеке зла (Б. Беккер). Попытки «распрощаться с дьяволом» и позднее предпринимались в богословии неоднократно: среди самых нашумевших – работа Герберта Хаага «Расставание с дьяволом («Abschied vom Teufel», 1969), вызвавшая острую дискуссию среди протестантских теологов. Все эти опыты по аннигиляции дьявола на самом деле приводили лишь к тому, что дьявол все менее воспринимался как «чужой», сближался с человеком вплоть до полного с ним отождествления.
Тому же вочеловечиванию способствовала и художественная литература, все более превращавшая дьявола в нечто очень по-человечески понятное: в раскаивающегося грешника, проливающего потоки сентиментальных слез (плачущий дьявол немыслим для Средневековья!) и вызывающего сочувствие (демон Аббадона из поэмы Клопштока «Мессиада»), и далее – в загадочного и привлекательного демона-любовника. В романтизме и символизме дьявол становится выразителем бунтарского богоборчества и мировой скорби и даже берет на себя роль заступника за человечество перед Богом, разоблачая жестокость и ничтожество созданного им мира. Люцифер в мистерии Байрона «Каин» (1821), принимая сторону людей, называет Бога одиноким и несчастным тираном, лучшим деянием которого было бы «сокрушить самого себя» (акт 1, сц. 1); в неоконченной поэме «Падший ангел» Альфреда де Виньи (1824) Сатана обвиняет Бога в том, что «все, снизошедшее в этот ненавистный мир, возвращается на небо окровавленным».
Идея спасения дьявола, осторожно намеченная Оригеном и в целом отвергнутая Средневековьем (за исключением, быть может, еретических движений – например, катаров), расцветает теперь пышным цветом. Виктор Гюго в поэме «Конец Сатаны» (1854–60) рисует нелепую благостную картину примирения дьявола и Бога, заставляя последнего говорить Сатане слова прощения (!): «Между нами есть ангел... ангел по имени Свобода – это наша общая дочь... Сатана умер; воскресни, о небесный Люцифер!»
Обман также перестает быть регулятивной идеей, определяющей отношения дьявола и человека. Уже Иоганн Фауст, по свидетельству народной книги, решил для себя, что разрывать договор с дьяволом было бы нечестно. Средневековому человеку такое решение было бы совершенно непонятно: контакты с дьяволом для него оставались за пределами морали. Однако новый, вочеловеченный дьявол требовал иного к себе отношения – морального, «человеческого».
Наконец, дьявол уже не позиционировался в области материально-низового: напротив, он ассоциировался скорее с высшими духовными началами. Мысль о том, что связь с демоном в определенном смысле «облагораживает», высказывал уже Лодовико Синистрари в конце XVII века; в дальнейшем эта линия приведет к эстетизации дьявола, превращенного декадансом в «непонятого учителя Великой красоты» (Зинаида Гиппиус, «Гризельда», 1893).
Мысль об особой – хотя и отрицательной – «гениальности» дьявола высказывалась и в протестантской теологии – в «Догматике» Эмиля Бруннера: «Человек в слишком малой мере дух (Geist), чтобы изобрести грех. Он не настолько гениален (zu wenig genial), чтобы самому, первым, помыслить такую возможность...» ( Бруннер. S. 153 ).
Одной этой цитаты достаточно, чтобы почувствовать, какая пропасть отделяет нововременную христианскую демонологию от средневековой: все средневековые авторы согласились бы с Бруннером в том, что дьявол «изобрел» грех; однако ни одному из них не пришло бы в голову утверждать, что для этого нужна какая-то особая «гениальность» (впрочем, и слово «гений» средневековье если и употребляло, то совсем в ином смысле).
Итак, дьявол нововременной демонологии – совсем иной: не чужой – но приближенный к человеку вплоть до полного вочеловечивания; не материально-низменный – но скорее «высокий» даже в своем злодействе и греховности (в наивных символистских апологиях демонизма эта «высота» становится предметом любования).
Как и в средневековой демонологии, между человеком и дьяволом образуется некая общая сфера. Однако если Средневековье позиционирует эту сферу внизу – в области материально-низменного, которое человеку надлежит отвергнуть вместе с дьяволом, то теперь эта сфера позиционируется вверху – в области духовного. Грех – будь он предметом любования или отвращения – духовен; страшна уже не плоть, но сам дух человека.
Итак, главное, пожалуй, изменение, происходящее при переходе от средневековой к нововременной христианской демонологии – переосмысление «канала связи» между дьяволом и человеком. Для Средневековья эта связь протекала в области материального низа. Именно там человек соединялся с дьяволом даже в таком «духовном» грехе, как гордыня, которая все равно ведь приводила к опусканию в область материи, вони, грязи и рисовалась именно в таких терминах: гордыней дьявол был низвергнут вниз, унизительно заключен в свиней, в смрадные гробницы и т. п. Для человека нового времени вся коллизия связи с дьяволом протекала в области духовного верха. В «Бесах» Достоевского нет страшной плоти, страшного низа: страшен здесь сам дух.
Итак, эта книга посвящена средневековой христианской демонологии – хотя мы и совершаем в ней, по мере необходимости, небольшие экскурсы в позднейшие эпохи. Нашим основным источником послужила патристика (латинская и в меньшей степени греческая), которая в свою очередь опиралась на библейские речения, нередко весьма своеобразно понимаемые. В связи с этим перед нами встала непростая проблема библейских цитат, которые мы не всегда могли дать по русскому Синодальному переводу. Дело в том, что святые отцы и другие средневековые авторы нередко цитировали по памяти, искажали библейский текст по тем или иным уже не ясным для нас соображениям или же использовали варианты текста, которые не стали каноническими. Иногда же Синодальный перевод не давал нужного нам буквального смысла. Поэтому Синодальный перевод был нами использован лишь там, где это было возможно; в целом же цитаты из Священного Писания приводятся, безо всяких оговорок, в том виде, в котором они фигурируют в данном средневековом тексте (разумеется, в буквальном, предельно точном переводе). Эти цитаты следует воспринимать не как прямые, но как опосредованные – как часть средневековой культуры, по-своему толковавшей, понимавшей и порой искажавшей Библию; при желании читатель сможет сам сверить их с библейским оригиналом.
Все переводы, кроме оговоренных, принадлежат автору, который нередко жертвовал в них литературной гладкостью для того, чтобы передать строй средневековой мысли и речи – быть может, несколько странный для современного читателя.
Книга имеет вид алфавитного словаря, однако внутренние ссылки (выделенные курсивом) выстраивают систему смысловых связей между отдаленными статьями: средневековая демонология, таким образом, представлена как целостность, возникающая в игре аналогий, соответствий, противопоставлений.
АД
 Место, где люди и демоны претерпевают вечное (по мнению меньшинства – временное) наказание за грехи; при этом демоны в аду пока являются главным образом палачами, после же Страшного суда сами станут наказуемыми (см. Наказание демонов). Место, где люди и демоны претерпевают вечное (по мнению меньшинства – временное) наказание за грехи; при этом демоны в аду пока являются главным образом палачами, после же Страшного суда сами станут наказуемыми (см. Наказание демонов).
Истоки доктрины; «шеол» и «геенна»
Постепенное формирование идеи об особом месте посмертного наказания грешников можно проследить в Ветхом Завете. В Пятикнижии, книге Иисуса Навина, книгах Царств и Судей грешники пока еще наказываются непосредственно в земной жизни, в посмертной же судьбе грешников и праведников нет никаких различий: «Древних израильтян не смущало ни счастье нечестивых, ни несчастье праведников; Яхве не интересовали отдельные личности, но весь народ целиком. Он наказывал грешников здесь, непосредственно на земле, или в их потомстве» (Ришар, 31, 38). В этих ветхозаветных книгах ад (шеол, изредка Аваддон) – не место наказания, но место посмертного пребывания всех людей, независимо от их греховности или праведности, причем это посмертное состояние обрисовано крайне туманно; так, в Плаче Иеремии ад назван просто «темным местом» (Плач. 3:6), а книга Иова загадочно сообщает, что «в стране мрака» «нет устройства» (10:22; в Вульгате: nullus ordo, т. е., буквально: «никакого порядка, чина»).
Новое понимание шеола как места воздаяния за грехи, от которого праведник может быть избавлен, возникает в Псалтири и в книгах пророков. Так, в псалме 48 посмертная судьба грешников и праведников (к которым автор относит и себя) ясно различается: «Как овец, заключат их [грешников] в преисподнюю; смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними; сила их истощится; могила – жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня» (Пс. 48:15-16). Одним из первых, кто «увидел в глубине шеола ужасную бездну, где осужденные подвергаются мучениям» (Ришар, 35), был пророк Исаия: «И будет в тот день: посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны» (Ис. 24:21-22); «Тофет [место в долине Гиннома, где приносили жертвы Молоху – см. об этом ниже] давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет его» (Ис. 30:33). В книге Иезекииля шеол также предстает местом наказания врагов Израиля: «Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, павшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых» (Иез. 32:22-23).
Даниил, подтверждая идею существования вечного ада, впервые формулирует особый пункт будущей христианской доктрины ада – воскрешение мертвых для окончательного суда над ними: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2). В христианская догматике представление об аде как безразличном вместилище всех мертвецов сохраняет верность лишь применительно к тому состоянию ада, в котором он пребывал до нисхождения в него Иисуса Христа (см. Нисхождение в ад) и его последующего вознесения на небо: «До вознесения Иисуса Христа ни одна душа не могла попасть на небо; можно сказать, что все мертвые находились в одном месте, удаленном и от неба, и от поверхности земли» (Ришар, 29).
Промежуточную стадию между идеей единой для всех преисподней и идеей раздельных ада и рая представляют писания Ипполита Римского. «Аид» у него – место, «где содержатся души праведных и неправедных»; в то же время, пребывая в едином «аиде», праведные и неправедные там все-таки разделены: праведные – находятся где-то одесную, справа (видимо, от Бога), где и «наслаждаются созерцанием видимых им благ»; неправедных же «ангелы-мучители тащат ошую» (Против греков. Col. 795). Страшный Суд представляется Ипполиту моментом нового объединения праведников и грешников в безусловном признании Божественной справедливости: «При начале Его суда восстанут все, люди, ангелы, демоны, единый испуская глас и говоря так: «Праведен суд твой»» (Против греков. Col. 802).
Искупительный подвиг Христа и выведение им праведников из ада перевернули изначальное устройство преисподней: «в древнем шеоле остались лишь грешники и осужденные, и ад осужденных получил особое название геенны» (Ришар. P. 29). Это еврейское слово, часто используемое для обозначения ада в патристике (например, у Августина, О граде Божием. Lib. XXI), означает «долина Гиннома» и первоначально служило названием оврага под Иерусалимом, где при правлении нечестивых царей Ахаза и Манассии (4 Цар. 23:10; Иер. 32:35; 2 Пар. 33:6) жители города приносили своих детей в жертву Молоху; при Иосии (4 Цар. 23:10) туда бросали нечистоты и трупы. Со времен Исаии (Ис. 66:24) мрачная долина с ее кострами, на которых горели трупы и нечистоты, стала метафорой ада и была названа «огненной геенной». Иисусу Христу осталось лишь закрепить за словом расширительное значение, что он и делает, говоря о «геенне, огне неугасимом» (Мк. 9:43), «геенне огненной» (Мф. 5:22).
Теология ада
Идея ада как богословского понятия заключает в себе ряд спорных вопросов, которые, несмотря на однозначные решения церковных Соборов, продолжали волновать воображение теологов и мистиков.
Вечность ада
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне, –
гласит надпись над входом дантовского ада (Ад. 3:7-8). Ад сотворен Богом навеки; это положение подтверждается рядом текстов Нового Завета: «огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41); «диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Откр. 20:10).
Вера в прекращение ада и постепенное восстановление-очищение всех грешников (см. Осуждение и спасение демонов) всегда оставалась уделом маргинального меньшинства. Вечность же адских мук доказывалась, помимо прочего, и неумолимой симметрией, всегда зачаровывавшей средневековое воображение: если блаженства праведных – вечны, то вечными должны быть и муки грешников. И разве не об этом же сказал сам Иисус: «И пойдут сии [грешники] в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» ( Мф. 25:46 )?
Августин по поводу этих слов рассуждает так: «Если милосердие вынуждает нас верить, что будущее наказание грешников не будет бесконечным, то что же мы должны думать о награде праведников, если в одной главе, в одном месте, одном предложении, одним словом произнесено – “вечность”? Или же праведники из их святости и вечной жизни снова должны будут пасть в нечистоту грехов и в смерть?» (Августин. Против присциллианистов и оригенистов. Cap. VI. Col. 673).
Вечность ада довольно рано стала догматом христианской церкви. Второй Константинопольский Собор (553) осудил в девятой анафеме тех, кто утверждает, что наказание демонов и людей не будет вечным. Позднее и протестантская теология подтвердила этот догмат (статья 17 Аугсбургского символа веры, 1530): «Христос... осудил нечестивых людей и демонов на вечные муки» (цит. по: Уокер, 22). Сильным эмоциональным аргументом в пользу вечности ада служило соображение, что прекращение мук было бы незаслуженной милостью для грешников, которые, безусловно, предпочли бы исчезнуть вовсе, чем проводить вечность в аду; эта мысль появляется впервые во II-III вв. у Юстина, а затем у Минуция Феликса (Октавий) – грешники предпочитают «полностью исчезнуть, чем восстанавливаться для наказаний». (Эту точку зрения на смерть как на освобождение от наказания не разделяли, видимо, лишь социниане XVI-XVII вв. – последователи итальянских теологов Лелио и Фаусто Социни, – которые исповедовали смерть души грешника вместе с телом; тем самым проблема ада снималась сама собой).
Однако не менее сильная эмоциональная аргументация от Божественного милосердия и Божественного совершенства – Бог не может ни допустить вечных мук для собственных творений, ни лишить их возможности раскаяния и возврата к Богу, – вновь и вновь приводила к сомнениям в вечности ада. Маркион и его последователи (II в.) верили в освобождение Христом из ада всех грешников (Тертуллиан, Против Маркиона, 1:1); Ориген, а позднее Скот Эриугена развивали учение о «восстановлении всех вещей», их возвращении в лоно Бога (см. Осуждение и спасение демонов), что делало вечность ада решительно невозможной. В Новое время против вечности ада, продолжавшей оставаться догматом, были выставлены новые аргументы. Джон Тиллотсон, архиепископ Кентерберийский, в конце XVII в. выдвинул два довода, имевшие большой резонанс (в частности, они обсуждаются в энциклопедии Дидро и Даламбера, в статье Малле, 669-670). Эпитет «вечный», как утверждал Тиллотсон, и в Ветхом, и в Новом Завете означает лишь «длительный»; потому упоминания о «казни вечного огня» (Иуд. 7) и т. п. не следует понимать буквально. Второй аргумент Тилотсона – богословско-педагогический: архиепископ настаивает на необходимости различать угрозу и обещание; когда Бог говорит, что предаст тех или иных провинившихся «вечному огню», то – даже если допустить, что речь действительно идет о вечном огне, – Бог вовсе не дает тем самым обещание, которое уже не может нарушить, но лишь угрожает в надежде, что угроза отвратит грех и наказание вообще не потребуется. Такая угроза – не обещание и не пророчество, совершающееся с железной необходимостью, но лишь педагогическая мера воздействия.
Отсрочка ада
Споры о том, когда душа попадает в ад – немедленно после смерти или после Страшного суда, – начались в раннехристианские времена, причем особая популярность идеи «отсрочки ада» – dilatio inferni – приходится на период II-VI вв. (Ришар). Впервые эта идея нашла выражение, по-видимому, у св. Юстина, который полагал, что непосредственно после смерти души ожидает лишь некое предварительное разделение: «Души праведников ожидают времени суда в более хорошем месте, а души нечестивых – в более плохом» (Диалог с иудеем Трифоном. Col. 487). Cв. Ипполит Римский (Против греков. Col. 795) считает, что души грешников уже находятся в темноте ада, но огненное озеро посреди ада – главное орудие наказания – будет пустовать вплоть до Страшного суда. Тертуллиан также говорит об отсрочке наказания и для демонов, и для грешников.
С особой тщательностью идея отсрочки наказания разрабатывалась применительно к демонам. Отправной точкой здесь служил пассаж из Евангелия от Матфея, где двое «бесноватых» кричат Иисусу: «что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Мф. 8:29). Таким образом, демоны (а с точки зрения святых отцов к Иисусу устами «бесноватых» обращаются сами демоны) знают, что время их наказания еще не пришло. Ориген , комментируя это место, пишет следующее: «Не хочет Бог наказывать род демонов прежде времени. Знают об этом и сами демоны (...) , и потому просят Господа, чтобы не мучил их раньше времени и не посылал их в бездну (т. е. в ад – А. М.). И потому [Господь] не отстраняет дьявола от княжения сим миром, что дела его [дьявола] пока еще нужны для совершенствования тех, кто удостоится короны, дела его пока еще нужны для того, чтобы праведные могли бороться и побеждать» (Ориген. Гомилия XIII на Книгу Чисел. Col. 674). Отсрочка ада для дьявола и демонов мотивируется, таким образом, характерной для раннехристианского мироощущения верой в своеобразную пользу дьявола (см. Полезный дьявол): дьявол нужен, потому что без него святые не одержат своих побед (не кого будет побеждать!) и не стяжают венец победителей (о другой мотивации такой отсрочки см. в ст. Наказание демонов).
Пожалуй, более изысканную мотивировку отсрочки ада для дьявола и демонов Ориген формулирует в толкованиях книги Исход: «Так как дьявол грешил с самого сотворения мира, нет ему ни огня, ни бичеваний. Ибо недостоин он наказаний от Бога, и не может дьявол сказать: “Господи! не в ярости Твоей обличай меня” (Пс. 6:2). Всякий, кто осознаёт свой грех, будет молить о скорейшем наказании». Мы, христиане, в отличие дьявола, «в этом земном веке получаем наказание, после же упокоимся в лоне Авраамовом» (Ориген, Толкования книги Исход. Сol. 294 ).
В таком толковании отсрочки наказания Господня кара предстает своего рода формой близости между Богом и человеком, в соответствии с речением из Притч Соломона, повторенным ап. Павлом: «Господь, кого любит, того наказывает» (Притч. 3:12, Евр. 12:6). Наказание – дело любви и путь сближения человека с Богом. Дьяволу отказано в наказании именно так, как отказано ему в близости с Богом; отсрочка же наказания (которое все равно рано или поздно грядет) представляет собой как бы метафору удаления дьявола от Бога.
Для иных богословов идея отсрочки наказания оказалась чужда. Тезис о том, что души отправляются в ад немедленно, выдвигает уже св. Хиларий Пуатьеский (ум. 366); при этом, чтобы ощутить наказание, души получают разреженные, нетвердые тела, «подобные пыли и грязи», в которые муки и страдания будут входить так же легко, «как ветру легко рассеивать пыль» (Трактат на псалмы. Сol. 258).
Положение о том, что душа идет в ад сразу после смерти (mox in infernum descendere), стало догматом западной церкви в силу решения Второго Лионского собора (1274). Однако тем самым фактически предполагалось наличие двух судов над душой человека – двух «эсхатологий»: «“малой”, персональной, и “большой”, всемирно-исторической» (Гуревич. С. 198), – что вполне могло казаться – и казалось – чрезмерным. Поэтому некоторые теологи (особенно протестанты) возвращались к идее отсрочки ада, придавая ей новые формы. Так, английский теолог Джилберт Бёрнет (кон. XVII в.) полагал, что душа до момента страшного суда впадает в некий сон – «психопаннихию»; к сходным воззрениям ранее склонялся и Лютер (Баутц, 114). Многие мистики XVII - XVIII вв. также стремились избавиться от чрезмерного, с их точки зрения, посмертного «малого суда»: так, член т. н. филадельфийского общества И. В. Петерсен полагал, что после смерти происходит лишь предварительное разделение душ на два основных класса, наказание же совершается только в момент Страшного суда ( Уокер, 240 ).
Строение и величина ада; лимбы и чистилище
Раннехристианское воображение восприняло из иудаистской традиции представление об аде как о «неустроенном» месте (цитированная выше кн. Иова). Если в мире царит установленный Богом порядок, то ад – подобие хаоса; идеи порядка, устроенности, украшенности, свойственных миру, на ад не распространяются. Ипполит Римский в начале III в. определяет «аид» как место от самого творения «неустроенное» (άκατασκεύαστοζ) и «неукрашенное», «подземное вместилище, в котором свет мира не сияет» (Против греков. Col. 795). Впрочем, это представление сосуществовало с противоречащим ему убеждением в том, что ад представляет собой некое «царство» (хотя, конечно, «антицарство» – см. Царство дьявола), в котором царит некий «порядок», обратный порядку мира («антипорядок» – но все-таки порядок!).
Образ ада как некоего места, устроенного абсолютно противоположно раю, нарисован в латинском трактате неизвестного автора «Книга о трех обиталищах»: популярный в Средневековье, этот трактат приписывался патрону Ирландии св. Патрику (V в.) и даже Августину. Мотив обратной симметрии между адом и раем проведен здесь с замечательным педантизмом. Ад буквально во всем противоположен раю, но тем самым он – отнюдь не хаотичен; его порядок – это вывернутый наизнанку порядок рая, и все-таки это – какой никакой, но порядок.
«Есть три обиталища, созданные рукой всемогущего Бога: верхнее, нижнее, среднее (primum, imum, medium). Верхнее именуется Царством Божиим или Царством Небесным; нижнее – преисподней (infernus); среднее – нынешним миром (mundus praesens) или кругом земным. Крайние из этих трех обиталищ друг другу во всем противоположны (contraria) и никаким согласием (societate) не связаны. Ибо какое согласие может быть у света с тьмою, у Христа и Велиара? (2 Кор. 6:14-15)? Среднее же обиталище имеет некоторые сходства с крайними, поскольку в нем есть и свет и тьма, и холод и тепло, и боль и здоровье, и веселье и печаль, и ненависть и любовь...» (Книга о трех обиталищах. Cap. I. Col. 831). Земной мир, таким образом, представляется автору трактата неким смешением ада и рая: «Этот мир – смешение (commixtio) злых и добрых». Оба же «крайних» царства-обиталища, напротив, являют собой образ полного разделения – не в соответствии ли с обещанием Христа «дать земле» «разделение» (Лк. 12:51)? «В Царстве Божием нет неправедных (mali), но все праведны (boni); в преисподней же нет праведных, но все неправедны (...)». Далее возникает любопытный мотив невыразимости, относимой в равной мере и к райскому блаженству, и к адским ужасам: «Царство Божие всякой молвы больше, всякой хвалы лучше, всякой славы превосходнее, всякого счета неисчислимее. Каковы же бедствия (mala) ада, никто не может ни сказать, ни помыслить; ибо они много хуже, чем то, что можно представить. Царство Божие полно и света, и мира, и любви (caritas), и мудрости, и славы, и чести, и сладостности, и почитания (dilectio), и музыки (melodia), и радости, и непрекращаемой красоты, и всех невыразимых благ, о которых невозможно ни сказать, ни помыслить». Следующее далее описание ада построено как вполне симметричный набор антонимов к вышеперечисленным достоинствам рая. Знаменательно, однако, что перечень адских бед все же получился немного длиннее, чем список райских блаженств – христианские авторы в описании ада всегда проявляли больше изобретательности, чем в картинах рая: «Преисподняя же (locus inferni) полна мрака, раздора, ненависти, глупости, бесславия (miseriae), позора (turpitudinis), горечи, обиды, боли, ожогов, жажды, голода, огня неугасимого, скорби, непрекращаемой кары, и всех невыразимых бед (omnis ineffabilis mali), о которых невозможно ни сказать, ни помыслить. Граждане небес (cives coeli) суть праведники и ангелы, чей царь – всемогущий Бог; и напротив, граждане ада (cives inferni) суть неправедные люди и демоны, чем князь – дьявол». Автор подводит итог этой череде антитез следующей остроумной формулой: «В Царстве Божием ничего нельзя пожелать, что бы не нашлось; в аду же ничего нельзя найти, что пожелаешь» («Nihil in regno dei desideratur quod non inveniatur; at in inferno nihil invenitur quod desideratur» – Книга о трех обиталищах, Cap. I. Col. 831-832). Ад, таким образом, предстает местом абсолютного неосуществления любых желаний, местом абсолютного отсутствия желаемого. Трудно в этой связи не вспомнить булгаковского Воланда, спустя много столетий сходной формулой описавший советскую реальность: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!»
Итак, описания устройства ада в целом колебались между двумя противоположными идеями: с одной стороны – ад как полный хаос, «неустроенность»; с другой стороны – ад как антицарство, имеющее четкое устройство. Вторая идея, несомненно, преобладала, – хотя бы уже в силу того обстоятельства, что помыслить и описать полный хаос было крайне затруднительно.
Самый знаменитый средневековый ад – ад Данте – обладает несомненным порядком. «Ад – зеркало высшего, Божественного мира, но это зеркало кривое и искажающее», поэтому оно «никогда не может адекватно отобразить изначальную умопостигаемую гармонию и красоту небесных сфер» (Никулин. P. 251-252). Дмитрий Никулин приводит рад примеров тех искажений, которые претерпевают Божественные установления, будучи отражены в «кривом зеркале» ада. Кратер, воронка ада – противоположность «небесной горы»: ад не уходит вверх, но, напротив, уводит вглубь. Рай образован сферами, а ад – кругами, которые можно понимать как неполные, неточные отражения сфер, как их проекции на плоскость. Люцифер производит свет, лишенный тепла, – еще одна перверсия естественного порядка вещей.
Ад – творение Бога (о чем и свидетельствует знаменитая надпись на его воротах: «Я высшей силой, полнотой всезнанья и первою любовью сотворен»), однако из всех Божественных творений он в наибольшей степени удален от Бога, в наименьшей степени отражает его красоту, и потому он – лишь кривое зеркало мира.
Эта искажающая «пародийность» ада подчеркнута бессмысленной фразой, которую произносит его страж Плутон, когда Данте и Вергилий приближаются к его четвертому кругу: «Pape Satan, pape Satan aleppe!». По остроумному предположению Д. Никулина, Плутон пытается воспроизвести надпись на воротах: «Fecemi la divina podestate, La somma sapienza, e'l primo amore» (III:5-6), однако теряет звуки и искажает слова: la divina podestate превращается в pape, sapienza – в Satan (почти в Сатану!), el primo amore – в aleppe. Плутон как бы пытается поименовать Святую Троицу (зашифрованным упоминанием которой является надпись на воротах) – но вместо гимна Троице из его уст выходит кощунственная пародия (Никулин. P. 256-260).
Из бесчисленного разнообразия представлений о строении ада к достаточно устойчивым и общепринятым можно отнести идею двух адов: верхнего и нижнего. Эта идея находила библейское обоснование в Псалтири, где говорится: «Ты избавил душу мою от ада преисподнего» (85:13; в Вульгате: eruisti animam meam ex inferno inferiori, т. е. буквально: «от ада нижнего»). Григорий Великий, исходя из весьма неясного указания псалма, высказывает предположение, что «верхний ад на земле, нижний – под землей» (Диалоги, 4:42. Col. 400). Идея развита в «Светильнике» Гонория Августодунского (ок. 1100). Верхний ад здесь изображен как «нижняя часть этого мира, полная мук», «здесь неистовствуют безмерный жар, великий холод, голод, жажда, различные страдания телесные, такие как бичевания, и душевные, такие как ужас и робость...»; нижний же ад – «духовное место» (locus spiritualis), где горит неугасимый огонь; его расположение внизу следует понимать метафорически: «о нем говорят, что он находится под землей, потому что, как тела грешников покрываются землей, так души грешников погребаются в аду» (Цит. по: Оуэн, 60).
Разделение ада на верхний и нижний нашло выражение и в поэзии. В англо-норманнской поэтической версии «Плавания святого Брендана» (ок. 1125) Бенедейта верхний и нижний ад разделены соленым озером, верхний ад полон пламени, нижний – вони и холода (Оуэн, 60). У Данте адские круги с шестого по девятый, окруженные стигийским болотом, находятся в пределах стен «города Дита» (Люцифера) и образуют Нижний ад; «вечный пламень» у Данте, как и у Гонория Августодунского, горит лишь в нижнем аду (Ад, 8:73-75).
Идея лимба была порождена необходимостью выделить в аду особое место для тех, кто, не будучи крещен, не совершил вместе с тем и никаких грехов. Казалось несправедливым, что библейские патриархи, ожидая в аду появления Христа (см. Нисхождение в ад), разделяют страдания прочих грешников; уже Беда Достопочтенный утверждал, что праведники дожидаются Христа в аду, не испытывая мук. Однако лишь позднее (в XIII в.) возникает понятие об особой части ада – лимбе (l imbus – буквально «край одежды»), где обитают патриархи и невинные младенцы. Альберт Великий и Фома Аквинский ввели различение «лимба младенцев» (limbus infantium, limbus puerorum) и «лимба отцов» (limbus patrum) (Годель, 761).
Идея чистилища – места, где очищаются души, не совершившие смертных грехов, но все же не достойные немедленного отправления в рай, возникла под влиянием 2 книги Маккавеев (книги, включенной в состав католической Библии): Иуда Маккавей, предавая земле падших воинов, обнаруживает у них «под хитонами посвященные Иамнийским идолам вещи, что закон запрещал Иудеям», тем не менее он и его соратники «обратились к молитве, прося, да будет совершенно изглажен содеянный грех; а доблестный Иуда увещевал народ хранить себя от грехов, видя своими глазами, что случилось по вине падших. Сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении; ибо, если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда, – какая святая и благочестивая мысль! Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешатся от греха» (2 Макк. 12:39-46). Посмертное состояние согрешивших воинов мыслится в этом тексте как неясное, не определенное до конца и зависящее от акта искупления, посредством которого живые могут вмешаться в судьбу мертвых. Доктрина чистилища, разработанная в решениях Лионского (1274), Флорентийского (1439) и Трентского (1563) соборов, в конце концов не была принята ни православной, ни протестантской церквами. Вопросы о месте, длительности и природе наказания в чистилище остаются достаточно неясными. Чистилище сначала мыслилось, видимо, как раздел ада: так, Августин, считавший, что грешная душа после смерти идет «либо в огонь очистительный, либо на муку вечную» (О Бытии против манихейцев. 20:30. Col. 212) понимает чистилище как своего рода «верхний ад». Грешнику вообще трудно понять, где он находится: в аду или чистилище. У Цезария Гейстербахского иные грешники, оказавшись на том свете, принимали ад за чистилище и наоборот (Гуревич. С. 235). Гуго Сен-Викторский робко предполагает, что осужденные на чистилище наказываются там, где согрешили («...их местонахождение не вполне ясно, разве лишь что из многих примеров и откровений душ, приговоренных к такому наказанию, часто видно, что они отбывают его в этом мире; и, пожалуй, вполне было бы возможно, чтобы они претерпевали отдельные наказания там, где согрешили» (О таинствах. Col. 586). Вместе с тем, Данте рисует отчетливую трехчастную структуру загробного мира, где не может быть места таким сомнениям.
Вопрос о размере ада, а также о соотносительной величине ада и рая таил известные затруднения: ведь из библейских речений о немногочисленности спасенных следовало, что ад значительно больше рая, а подобная физическая пропорция не могла не быть воспринята как явное доказательство торжества зла над добром. До того, как эта проблема была осознана, авторы видений и богословы находили некоторое злорадное удовольствие в констатации неизмеримости ада, для выражения коей уже «Видение св. Павла» (III в.) дает рельефную формулу: грешников в аду столько, что сто мужей, каждый из которых имел бы по сто железных языков, не смогли бы перечислить их, даже если бы начали говорить с самого сотворения мира (выше в «Видении..» называется и точная цифра – 144 000, – которая, видимо, казалась автору невероятно большой). Однако позднее богословы поняли, что количественный перевес ада, в сущности, малоприличен для божественного достоинства; так возникла проблема, над которой продолжали размышлять даже в XVII столетии, – еще Лейбниц усматривал странность в том, «что даже в великом будущем вечности зло будет торжествовать над добром, и это под верховным владычеством того, кто является верховным благом...» (Теодицея, 140) . Голословные уверения, что ад меньше рая, с которыми выступил, в частности «крипто-анабаптист» Курионе в сочинении «О величине блаженного царства Божия» (1554; см. Уокер, 37-38), не решали проблемы, но в конце концов было все же найдено устраивавшее всех решение: количественный перевес рая над адом будет достигнут, если учесть всех умерших (крещеных) детей.
Виды наказаний
Общепринятым в богословии было различение «наказания отрицательного, или наказания лишением» (poena privativa seu damni) и «наказания позитивного, или наказания чувства» (poena positiva seu sensus). Первое состоит в лишении: в вечном и окончательном удалении грешника от добра, от «лицезрения Божественного лика, которое составляет вечное блаженство праведных» (Малле, 666); второе заключается собственно в «позитивных» физических мучениях, которые, по мнению одних богословов, должны наступить после обретения душой воскресшего тела в результате Страшного суда, а по мнению других – могли начаться и сразу после смерти: так, Хиларий Пуатьеский, как указывалось выше, даже предусмотрительно снабжает грешников неким подобием тел, чтобы они могли без затруднений воспринять физические муки. В цитированной выше «Книге о трех обиталищах» (Cap. 2, col. 833) эта фундаментальная двойственность адских мук трактована как своего рода единство присутствия и отсутствия: «Мука же двойная: быть удаленным от Царства Божия и вечно быть в аду (abesse a regno Dei, et esse semper in inferno)... быть лишенным присутствия ангелов и вечно терпеть присутствие ужасных демонов (praesentiam amittere angelorum, et terribilem daemonum semper pati praesentiam)».
Собственно физические муки, согласно той же «Книге о трех обиталищах» (там же), делятся на два основных типа: «Главных же мук в аду две: холод невыносимый и жар огня неугасимого (frigus intolerabile, et calor ignis inexstinguibilis)».
В более детальных изложениях физические муки расписаны по всем пяти органам чувств: осязание страдает от огня, слух – от нескончаемых воплей отчаяния, обоняние – от вони серы и прочих миазмов, вкус – от жажды и голода, зрение – от ужасающих картин пыток и постоянного мрака (который, видимо, мыслится богословами не столь абсолютным, как это предполагается Библией, говорящей об аде как о «стране мрака», где «темно, как самая тьма», – Иов. 10:22 ). Зрелищному моменту вообще уделяется особое внимание. Зрелище (visio) дано и праведным в раю, и грешником в аду, однако, по удачному выражению анонимного автора «Книги о трех обиталищах» (Col. 832), праведных зрелище «насыщает», а грешников – «мучает»: «Насыщает праведных зрелище святых и ангелов, а более всего – самого Бога. Мучает неправедных и грешников зрелище осужденных и демонов, а более всего – самого дьявола», – разъясняет он, вновь привычно выстраивая симметричную конструкцию (полный параллелизм между адом и раем!).
После Страшного суда, когда грешники получат в вечное пользование свои теперь уже нетленные тела, они будут еще острее ощущать свои муки, в то время как праведники будут гораздо острее переживать блаженства; для первых тела станут усилителем страданий, а для вторых – наслаждений. Таким образом, как не без иронии замечает дантовский Виргилий, грешников «ждет полнее бытие в грядущем» (Ад, 6:111).
Состояние грешников в аду
Душа человека в аду оказывается в неком окончательном, неподвижном состоянии – in statu termini; ей уже не может быть дарована милость раскаяния, она может лишь утверждаться во зле. Это богословское представление точно воссоздано в дантовом «Аде»: в раздающихся здесь воплях поэт не слышит слез раскаяния, но одни лишь «на Господа ужасные хулы» (5:36). Согласно воззрениям томистов, душа к моменту попадания в ад узнала все, что она могла узнать, и не способна уже узнать что-либо, что подвигнет ее на раскаяние. В еще большей степени это относится к демонам, которые в момент своего падения обладали всей полнотой знания о мире и потому не могут уже узнать ничего нового, что могло бы изменить их выбор, сделанный раз и навсегда в пользу зла (Баутц, 119). Ад, таким образом, имеет чисто наказующую, но никак не очищающую и исправляющую функцию, – точка зрения, всегда находившая немало противников, особенно среди последователей Оригена, веровавших в «восстановление вещей», в воспитательную функцию ада и в конечный возврат к Богу даже самых отъявленных грешников, в том числе и дьявола (см. Осуждение и спасение демонов). Так, И. В. Петерсен в сочинении «Тайна восстановления всех вещей» (1700-1710) доказывал, что наказание в аду сломает извращенную волю дьявола, и после 50 000 лет адских мук он вернется к Богу (Уокер, 240) .
Ад как зрелище для праведников
Христианский ад существует не обособленно от рая, но в своеобразной связи с ним: грешники и демоны, с одной стороны, и праведники вместе с Богом и ангелами, с другой, видят друг друга (так, в евангельском эпизоде «богач» «в аде, будучи в муках», видит вдали «Авраама и Лазаря на лоне его» – Лк. 16:22-23), причем для первых это созерцание составляет муку, а для последних – блаженство. (Иногда, впрочем, зрелище осмысляется как одностороннее и грешники в этом случае уподобляются актерам, не видящим зрительного зала, роль которого выполняет рай). Осужденные увидят, для большего отчаяния, блаженства праведников (1 Енох. 108:15) . Любопытный вариант от обратного – у Ипполита Римского: грешники, напротив, будут мучимы именно тем, что «не увидят ни хор отцов, ни праведных» (Против греков. Col. 728-729 ).
Праведники же узрят муки грешников. Тертуллиан «представлял себе ад как некий подземный амфитеатр, где восседают праведники, злорадно наблюдая за муками грешников» (Леви. P. 176). «Это будет пышное зрелище, – предвкушает Тертуллиан. – Там будет чем восхищаться и чем веселиться. Тогда-то я и порадуюсь, видя, как в адской бездне рыдают вместе с самим Юпитером сонмы царей... Там будут и судьи – гонители христиан, объятые пламенем более жестоким, чем свирепость, с которой они преследовали избранников Божьих. (...) Тогда-то мы и послушаем трагических актеров, голосисто оплакивающих собственную участь; посмотрим на лицедеев, в огне извивающихся, как в танце; полюбуемся возницей, облаченным с ног до головы в огненную красную тогу; поглазеем на борцов, которых осыпят ударами, как в гимнасии. (...) Такого зрелища, такой радости вам не предоставит от своих щедрот ни претор, ни консул, ни квестор, ни жрец, причем, благодаря вере, силой воображения уже сейчас мы может в общих чертах представить его» (О зрелищах, 20).
Идея визуального воздаяния, на наш взгляд, во многом обусловлена чрезвычайной чувствительностью раннехристианского сознания к зрительным впечатлениям, к зрелищу вообще: наказание и вознаграждение зрением и зрелищем было для него столь же (если не более) значимым и реальным, чем понятные нам «материальные» формы воздаяния.
Впрочем, своими корнями идея визуального воздаяния, вероятно, уходит в парсизм и иудаизм. Так, в книге «Бундахишн» (среднеперсидский комментированный пересказ утраченного раздела «Авесты») сказано, что «праведники и грешники сразу после воскресения в Конце Света в течение еще трех дней получают соответствующее вознаграждение или наказание – наказание отчасти должно состоять в том, что грешники вынуждены видеть блаженство праведных, в то время как последние должны, наоборот, плакать над муками нечестивых» (Клемен. С. 158). В т. н. Четвертой книге Ездры, поздней (I в. н. э.), но вполне иудейской по духу, перечисляются следующие семь наказаний (мучений) грешников, которые должны постигнуть их сразу после смерти: «Первое мучение – то, что они презирают высший закон; второе мучение – то, что они не могут покаяться и обратиться к лучшей жизни; третье мучение – то, что они увидят вознаграждение, уготованное тем, кто остался верен высшему свидетельству; четвертое – то, что они увидят муку, которая предстоит им самим в Конце Света; пятое – они увидят жилища, предназначенные для других и охраняемые в тишине ангелами; шестое – они увидят, что они уже скоро должны будут подвергнуться наказаниям; седьмое, которое превосходит все прежние, – то, что они исчезнут от стыда, уничтожатся от ужаса и изнемогнут от страха» (4 Езд. 7:81-87). Нетрудно заметить, что из семи наказаний (правда, наказаний предварительных) четыре имеют чисто зрительных характер, будучи наказаниями зрелищем.
Догмат средневекового богословия, утверждавшего, что созерцание адских мук составляет одно из блаженств праведников, представляется крайне неудобным с точки зрения «гуманизма» Нового времени. Между тем этот догмат обосновывался чисто логически: праведники не могут не наслаждаться зрелищем мук, поскольку в них проявляется справедливость и бесконечная мудрость Бога и его ненависть к греху; созерцая Бога лицом к лицу, праведники должны испытывать блаженство от всех его деяний (Августин, О Граде Божием, 20:22) .
«Пытка огнем не будет совершенной, если мучимый грешник при этом еще не будет бояться, что его ближние тоже испытывают такие же муки (perfecta poena in igne non esset, si non hoc quod ipse patitur etiam in suis timeret), – проницательно замечает Григорий Великий, толкуя вышеупомянутую историю о богаче и Лазаре. – Чтобы наказание грешников было более полным, они одновременно и увидят славу тех, кого они презирали, и будут мучиться, видя страдания тех, кого бесполезно любили. Следует верить, что до воздаяния последнего Суда неправедные увидят покой праведников, так что, видя их радость, они будут мучиться не только своей пыткой, но и блаженством праведников. Праведные же постоянно будут видеть муки грешных (justi vero in tormentis semper intuentur injustos), и от этого их радость будет только расти, ибо увидят зло, которого они по милосердию Бога избежали... И зрелище мук осужденных не омрачит ясность блаженства праведных душ, ибо там, где сочувствие к жалким отсутствует, радость блаженных не может уменьшаться (ubi jam compassio miserae non erit, minuere procul dubio beatorum laetitiam non valebit). Что же удивительного в том, что когда праведные увидять муки неправедных, это зрелище лишь дополнит их радости? Так ведь и на картину художник кладет черный цвет, чтобы белый или красный [рядом с ним] казался ярче. И, как сказано, радости праведных возрастут настолько, насколько глазам их будут явлены те бедствия проклятых, которых они сами избежали. И хотя им [праведным] будет достаточно для наслаждения и своих собственных радостей, они все же, без сомнения, всегда будут видеть бедствия грешников, поскольку для тех, которые видят в полной ясности своего Творца, ничто в природе не может быть скрыто» (Григорий Великий. Гомилии. Lib. II, Homil. 40. Col . 1308-1309).
Итак, праведники, «видящие [муки грешников], испытывают не печаль, но упиваются радостью», – утверждает, вслед за Григорием Великим, Петр Ломбардский (Сентенции. Col. 962); «Не без радости и наслаждения увидим мы ... муки погибших, в которых чудесным образом воссияют святость праведных и справедливость Бога», – вторит ему (значительно позднее) Роберто Беллармине (О вечном блаженстве святых; цит. по: Уокер, 29). Лишь в XVII в. эта идея стала восприниматься как неудобная; Пьер Бейль был одним из первых, кто увидел в ней «что-то шокирующее» (цит. по: Уокер, 30). Однако уже средневековое инфернальное визионерство, не критикуя богословский постулат, на практике почти полностью его игнорировало, и по вполне понятной причине: сошедший в ад зритель, сколь бы искушенным богословом он ни был, не мог не испытать сочувствия к окружившим его теням. Уже Павел в греческом «Видении св. Павла» «плачет» при виде участи грешников. Сходным образом ведут себя и некие «Теофил, Сергий и Гигин» – авторы раннехристианского Жития св. Макария (ниже мы будем еще его цитировать), описавшие в нем свое посещение ада: видя муки грешников и слыша их стенания, они «били себя в грудь со слезами и с великим страхом» (Теофил, Сергий, Гигин. Житие св. Макария. Cap . IX - X . Col . 418). Другая посетительница ада, героиня истории из «Речений старцев» (IV - V вв.), видя, как ее мать-блудница горит в огненной печи и умоляет дочь вывести ее из этого ужасного места, также поддается жалости: «Я же, тронутая ее голосом и слезами ... начала громко плакать и стенать вместе с нею» (Речения старцев: Vitae patrum, lib. VI, Libell . 1, 15, Col . 996-997).
Вслед за этими раннехристианскими посетителями ада и Данте позволил себе не испытать никакой радости при виде адских мук, но, напротив, почувствовал – возможно, памятуя, что «любовь ... движет солнце и светила» (Рай, 33:145), – сострадание при виде мук Паолы и Франчески:
Скорбящих теней сокрушенный зритель,
Я голову в тоске склонил на грудь...
...Потом, к умолкшим слово обращая,
Сказал: «Франческа, жалобе твоей
Я со слезами, внемлю, сострадая...»
(Ад, 5:109-110, 115-117 ).
Демоны в аду
Падшие ангелы ожидают суда и наказания в аду: «...Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания» (2 Пет. 2:4); Бог «соблюдает» согрешивших ангелов «в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд. 1:6).
Вместе с тем, несомненным было и присутствие демонов в мире. Таким образом, демоны одновременно и были, и не были в аду (о способах выхода из этого противоречия: см. Места обитания демонов); но даже если они и находились в аду, то оставалось неясным, каким образом они совмещали функции наказываемых и наказывающих (см. Наказание демонов). Догматическое богословие предпочитало обходить эту проблему, и в решениях Второго Лионского собора, приговорившего человека к немедленной посмертной отправке в ад, ничего не говорится о том, когда начинается наказание демонов. Раннехристианские богословы были склонны отложить наказание демонов до Страшного суда. И позднее среди теологов было весьма распространено мнение, что демоны либо пока не осуждены, либо еще не знают о своем осуждении, и poena sensus для них начнется лишь после Страшного суда (Баутц, 114-115).
Между тем верховный демон – дьявол, Люцифер, пребывая в аду, легко сочетает противоположные роли наказующего и наказуемого: так, на иллюстрации к «Видению Тнугдала» (имело место, согласно записавшему его некому Маркусу, в 1149) Люцифер зверски пережевывает грешников, но и сам при этом лежит прикованным к железной решетке; сходным образом трактует Люцифера Данте.
В средневековом аду присутствуют и персонажи античного ада, превращенные в демонов: таковы «демон Цербер грязнорылый», «трехзевый ..., хищный и громадный» (Ад, 6:31,13); Минос, «хриплоголосый Плутос» (Ад, 7:2 ) (Плутон).
Образность ада
Ад как образ сознания документирован литературой (прежде всего «видениями») и памятниками изобразительного искусства; ниже приведены наиболее характерные черты этого образа.
Местонахождение ада
Разнообразные и зачастую противоречивые соображения о месте ада высказывались уже в междузаветной апокрифической литературе: так, 1 книга Еноха помещает его то под землей, на востоке, в пещерах некой высокой горы (22); то в огромной пустыне, где нет никакой земли (1 Енох. 108:3).
Для раннехристианских представлений о местонахождении ада-преисподней ключевой стал евангельский стих, в котором Христос предрекает свою судьбу: «Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12:40). «Сердце земли» – и есть преисподняя: именно так понимали этот стих многие святые отцы. Опираясь на него, Тертуллиан разъясняет: «Для нас преисподняя – не простое углубление, не какая-то наружу открытая клоака (sentina)», но «в глубинах земли сокрытая бездна (abstrusa profunditas)» (Тертуллиан, О душе, Cap. LV, Col. 741).
Другое иносказательное упоминание ада святые отцы находили в книге пророка Ионы: «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои и волны Твои проходили надо мною» (Ион. 2:4). «Сердце моря означает ад, – объясняет Иероним, – потому и в Евангелии читаем: “в сердце земли” (Мф. 12:14). Поскольку сердце живого существа находится в середине, то, значит, и об аде говорится, что он находится в середине земли. В анагогическом же смысле “в сердце моря” значит следующее: он [Иона] говорит, что был посреди искушений» (Иероним. Комментарии на книгу пророка Ионы, Cap. 2, v. 4. Col. 1133). Подтверждения такому представлению о местонахождении ада Иероним находит и в других местах Священного писания. Комментируя строку из книги пророка Исаии: «ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы...» (Ис. 14:19), Иероним толкует «каменный ров» (в Вульгате – «fundamenta laci», основание, низ рва) как аллегорию подземной преисподней и делает вывод, что «ад находится под землей (infernus sub terra sit)» (Иероним, Комментарий на книгу пророка Исаии, Col. 163). В том же духе понята им и строка 15 той же главы: «Ты низвержен в ад, в глубины рва (in profundum laci)». «Как ров принимает воды, в него нисходящие, так ад принимает души», – комментирует Иероним (там же, Col. 221).
Итак, аллегорическое толкование библейских текстов давало святым отцам возможность не только определить местонахождение ада (он – под землей, и более того – в центре, «в сердце» земли), но и наметить основные константы адского ландшафта: бездна, ров, озеро (заметим попутно, что латинское lacus означает и «ров», и «озеро»).
Теория подземного и в то же время центрального расположения ада, безусловно, возобладала в Средние века. Ад понимался как закрытое пространство в центре земли; как полуокружность под земным диском, симметрично отражавшая небесную арку над диском земли; как пропасть или яма, имеющая открытый выход на земную поверхность в отдаленном районе мира. У Данте ад образовался в результате падения Люцифера, который вонзился в южное полушарие Земли и застрял в ее центре, физическом средоточии Вселенной (Данте не разделяет мнения большинства теологов, считавших, что падение ангелов произошло до сотворения земли и неба); земля в северном полушарии, расступившись вокруг головы Люцифера, образовала воронкообразную пропасть ада. Мильтон, в отличие от Данте, учитывает, что к моменту падения ангелов небо и земля еще не сотворены, и потому помещает ад «не в центре Земли..., но в области тьмы кромешной, точнее – Хаоса» (Мильтон, 23; предисл. к первой книге).
Связь дьявола с севером ( см. Места обитания демонов) заставляла порой и ад помещать где-то на севере, как это делает, например, Бонавентура (Комментарий на Екклесиаст, 11:3). Иногда ад располагали на неком острове: так, во французской поэме «Гион Бордосский» (XIII в.) ад расположен на острове, именуемом Moysant.
Ад, в соответствии с изложенной выше идеей взаимосозерцания грешников и праведников, находится поблизости от рая, возможно, напротив него. Это распространенное в Средние века представление поддерживается апокрифическими текстами: ад на третьем небе, на севере, напротив рая (2 Енох. 10:1); «Откроется печь Геенны, и напротив – рай блаженства» (4 Езд. 7:35). Из видения раннехристианских монахов-пустынников ясно, что ад представляется им расположенным где-то напротив рая. Так, некий монах Ануф, герой «Истории монахов в Египте» (в латинской обработке Руфина), перед смертью рассказывает о том, что Господь часто показывал ему (его «духовному зрению» – lux mentis) «множества ангелов, Господу предстоящих; видел я и собрания праведных и мучеников» и т. п., «напротив же (econtrario) видел Сатану, и ангелов его, вечному огню преданных» (История монахов в Египте. Cap . X . Col . 429). Другому визионеру, некоему Бернольду, ад представляется «темным местом», куда «из соседнего места» доходят луч райского света и благоухания обители отдохновения святых» (Гуревич. С. 220).
В XVII - XVIII вв. имеют место попытки встроить ад в реалии, открытые новым естествознанием. Одной из самых популярных теорий о местонахождении ада, вполне серьезно обсуждаемой даже в энциклопедии Дидро и Даламбера (в статье Малле, 667), стала теория Тобиаса Суиндена, который, ссылаясь одновременно на современные ему научные представления о Солнце и на Апокалипсис («Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем», Откр. 16:8), утверждал, что ад находится на солнце, поскольку оно есть нескончаемое пламя и поскольку только там могут поместиться все грешники. Нарисованная Суинденом картина отличается от традиционного богословского ада тем, что в ней чередование крайностей – огня и холода – заменено однообразием вечного поджаривания; однако любопытно, что последователь Суиндена, священник и математик Уильям Уистон, также озабоченный тем, чтобы найти аду место в новой посткоперниканской Вселенной, исправляет этот недостаток: он считает, что кометы должны рассматриваться как «ады», предназначенные для того, чтобы переносить осужденных то в близость к Солнцу, где их жарит огонь, то, напротив, в холодные и темные регионы – например, в орбиту Сатурна. Так древнее представление об аде как чередовании огня и холода в псевдорациональной форме возвращается в новую, уже «научную» картину ада. В то же время кометы Уистона воскрешают в такой же псевдорациональной форме традиционный атрибут адского пейзажа – колесо, имеющее место еще в раннехристианском видении св. Павла (см. ниже Адский пейзаж).
Адский пейзаж
Красочные изображения ада в европейской книжной миниатюре и живописи во многом обязаны работе раннехристианского воображения, зафиксированной в таких текстах, как известное «Видение св. Павла» (к которому мы далее будем неоднократно обращаться) или гораздо менее известное «Житие св. Макария». Последний текст, написанный, как сказано в нем самом, некими «Теофилом, Сергием и Гигином», принадлежит к обширному корпусу «Житий св. Отцов», формировавшемуся в среде раннехристианского египетского, палестинского и сирийского монашества. Его авторы описывают собственное посещение преисподней, в которую они попадают из «земли Хананейской». Первым признаком того, что они действительно оказались в аду, служит «наихудшая и невыносимая вонь»; затем путешественникам открывается следующее зрелище: «увидели мы озеро огромное, и в нем множество огненных змей; и из озера исходили голоса, и услышали мы вопли и рыдания великие, как бы неисчислимого множества людей, и с небес прозвучал голос, сказавший: “Место сие есть место суда и наказаний, в нем претерпевают муки те, кто отрицал Христа”». Затем путешественники «перешли озеро, и пришли в место меж двух высочайших гор, и посредине меж них увидели мы человека огромного роста, в сотню локтей (quasi centum cubitorum – т. е. 44,5 метра – А. М.), и был он весь связан цепями, висящими в воздухе (ipse catenis constrictus aereis, toto ligatus erat corpore). Две цепи, исходившие от одной половины тела, были закреплены в одной горе, а две другие [исходившие от другой половины тела] – в другой горе; и величайший огонь окружал его со всех сторон. Глас же его стенаний разносился словно бы на сорок миль. Увидев нас, заплакал он и возопил сильно, ибо огонь жег его жестоко». Затем «попали мы в другое пространное место, где было множество скал и великая бездна (rupes multae et profunditas magna). Здесь увидели мы некую женщину, которая стояла с распущенными волосами, вокруг же ее тела обвился огромный и ужасный змей (draco). Каждый раз, когда она хотела открыть рот, чтобы что-то сказать, змей тотчас совал голову ей в рот и кусал ее за язык. Волосы же этой женщины свисали до самой земли. Пока мы, изумленные и испуганные, смотрели на нее, из глубины долины (de ipsa profunditate vallis) послышались вдруг жалобные голоса: “Помилуй нас, помилуй, Христе, Сыне Бога высочайшего”» ( Теофил, Сергий, Гигин. Житие св. Макария. Cap . IX - X . Col . 418-419 ).
В этом раннем описании ада уже наличествуют некоторые существенные и в дальнейшем общераспространенные черты как адского пейзажа (озеро, скалы, бездна), так и облика грешников, тоже, в сущности, являющихся элементом адского ландшафта: характерны распущенные, до земли свисающие волосы загадочной женщины («огромный человек», скованные цепями, – возможно, сам Сатана, или же Адам?; женщина – вероятно, Ева) – символ крайнего отчаяния. Напомним, что в раннехристианской культуре распущенные волосы имели сильно выраженную семантику скорби: так, св. Перпетуя, оказавшись на арене, где ей предстояло принять мученическую смерть, первым делом «собрала распущенные волосы, ибо не пристало мученикам принимать страдания с распущенными волосами, как будто бы они скорбят во славе своей» (Страсти святых мучениц Перпетуи и Фелицитаты. Col. 54).
Описания адского ландшафта начинаются, естественно, с входа в ад. В него можно войти через жерло вулкана (например, Этны или Везувия), через узкий колодец; иногда путь в ад лежит через дремучий лес (как, в частности, у Данте); через разинутую пасть гиганта – библейского Левиафана (Иов. 41). В искусстве раннего Средневековья вход в ад иногда изображала голова огромного старца с открытым ртом – тип, восходящий, вероятно, к античным маскам Океана (Эрих, 87); иногда сама эта голова лежит в яме (Утрехтский псалтирь) или плавает посредине огненной бездны (в аахенском Евангелиарии, с подписью: «Abyssus» – «Бездна»).
Однако в любом случае гостю или будущему жителю ада не миновать адских врат, упомянутых уже в Новом Завете (Мф. 16:18). Порой эти врата оказываются разрушены Христом при его Нисхождении в ад: старофранцузская поэма «Гюон Овернский» утверждает, что эти врата будут восстановлены лишь после Страшного суда (Оуэн, 98). Данте входит в ад вратами, «которые распахнуты поднесь» (Ад. 8:126). С другой стороны, существовало и противоположное мнение: Христос, выходя из ада, накрепко запер там грешников и демонов, а ключ унес с собой. Это мнение основывалось на стихе Апокалипсиса, где Спаситель говорит о себе: «имею ключи ада и смерти» (Откр. 1:18). Миниатюра из английского манускрипта XI - XII в. (Британская библиотека) показывает, как это было проделано Христом. Образ накрепко запертого ада развит у Мильтона, в поэме которого Сатана, устанавливая границы своих владений, натыкается на «девятистворные врата», охраняемые двумя чудовищами ( Мильтон, 66-67; кн. 2 ) .
Другая антиномия адского пейзажа связана с представлениями о его замкнутости и тесноте или, напротив, огромности. С одной стороны, учитывая невообразимое количество грешников, ад должен быть необычайно велик. С другой стороны, одним из адских мучений, должна, вероятно, служить его теснота – и отсюда представление об аде как замкнутом и крайне тесном пространстве, которое визуализуется в образах темного грота с зубчатыми краями, облегаемого медными дверями с железными засовами (миниатюра из парижской псалтири, IX в.); пещеры с зубчатыми краями (в ряде византийских миниатюр); крепости с узким входом, похожим на лаз в подземелье (гравюра Дюрера «Христос у входа в ад»). Ужас замкнутости, вероятно, не так остро переживался средневековым человеком, как более близким к нам человеком Ренессанса, который впервые, возможно, создал образ замкнутого ада, напоминающего тюремную камеру: «Вход был похож на проулок, очень длинный и узкий, или на печь, очень низкую, темную и тесную. Внизу было что-то вроде гнилой воды, весьма грязной, вонючей и кишевшей ядовитыми рептилиями. В глубине, в стене, находилась полость в форме алькова, где я и увидела себя, скрюченной в страшной тесноте... Я была замурована в стене, как в дыре, и стены, ужасные самим уже своим видом, наваливались на меня всей тяжестью...» (Тереза Авильская о видении ада, посетившем ее в молельне ок. 1560; 16-17).
Адский пейзаж полон огня – равнина ада усеяна кострами, на которых мучаются грешники, – однако этот огонь парадоксальным образом ничего не освещает, так что в аду царит кромешная тьма; однако попавшие в ад каким-то образом все-таки видят здешние болота, реки, озера (порой огненные, в соответствии с упоминанием Апокалипсиса об «озере огненном, горящем серою» – Откр. 19:20; а порой, напротив, ледяные), даже города (город Дита у Данте). К самым устойчивым атрибутам адского пейзажа относятся адское колесо; мост правосудия; лестница.
Колесо ада – огненное, с тысячью спиц; по ободу его корчатся души; «ангел Тартара» крутит его тысячу раз в день, каждый раз – на расстояние между соседними спицами, и с каждым движением колеса очередная тысяча душ отправляется на муки (Видение св. Павла, 4). У Винсента Бове этих колес, медленно вращающихся, много, при этом к ним привязаны половые органы грешников (Винсент Бове, кн. 28, с. 15) .
Мост правосудия, широкий для праведника и узкий как бритва для грешника (впервые упоминается в диалогах Григория Великого; упоминание о нем в «Видении св. Павла» является вставкой IX в.), перекинут через реки ада (весьма часто рек четыре, как у Данте: Ахерон, Стикс, Флегетон и Коцит, состоящие из потоков слез – Ад, 14:113-119 ); в реках плавают инфернальные твари, пожирающие души; мост могут перейти только праведники, грешники же падают с него и погружаются в реку на глубину, соответствующую их греху (Видение св. Павла, 4). Другая метафора того же порядка – лестница спасения, возникшая под влиянием сна Иакова (Быт. 28:12-13). В «Видении Альберика» Альберик при своем путешествии по аду видит длинную железную лестницу с зубьями на ступенях; зубья рассыпают огненные искры, железо раскалено докрасна; под лестницей – котлы с кипящими смолой и маслом, их пары обжигают поднимающихся по лестнице, многие из которых падают прямо в котлы (цит. по: Хьюз, 169). Лестница и мост в аду используются просто как орудия пытки; ассоциируясь же с идеей чистилища, они могут принимать функцию орудий духовного возрождения (так, у Григория Великого в «Диалогах» адский мост связывает ад и рай – Оуэн, 10 ); адская лестница превращается в «лестницу добродетели», которая может привести в рай, но с которой можно сорваться и в ад.
В Евангелии от Никодима, повествующем о нисхождении Иисуса в ад, сам ад персонифицирован и является одним из персонажей рассказа: он спорит с Сатаной и затем выполняет указания Христа. В соответствии с этим текстом ад иногда понимался как живое существо: так, некоторые средневековые иллюстрации к сцене нисхождения Иисуса в ад изображают ад в виде старца; в Хлудоффской псалтири (IX в.) этот гигантский, превышающий размерами самого Христа, старец лежит на спине с согнутыми коленями, лицо его закрыто длинными волосами.
Структура ада часто определяется двумя числами: семеркой или девяткой. Существовало представление о семичастном аде – он имеет семь отделов, в каждом из которых наказывается один из семи смертных грехов. Дантовский девятичастный ад представляет собой воронку, которая, сужаясь, достигает центра земного шара; ее склоны опоясаны девятью концентрическими уступами – «кругами», в каждом из которых претерпевают наказания те или иные грешники: между вратами Ада и берегом Ахерона пребывают «ничтожные» – те, кто не заслужил ни адских мук, ни райского блаженства; в первом круге Данте помещает лимб, объединяя в нем и некрещеных младенцев, и добродетельных язычников; во втором круге содержатся сладострастники; в третьем – чревоугодники; в четвертом – скупцы и расточители; в пятом – гневливые; в шестом – еретики; в седьмом – насильники над ближним и над его достоянием, насильники над собою и над своим достоянием, насильники над божеством, над естеством (содомиты), над естеством и искусством (лихоимцы); в восьмом – обманувшие не доверившихся: сводники и обольстители, льстецы, святокупцы, прорицатели, мздоимцы, лицемеры, воры, лукавые советчики, зачинщики раздора, поддельщики металлов, поддельщики людей, денег и слов; наконец, в девятом круге содержатся обманувшие доверившихся – предатели родных, родины и единомышленников, друзей, сотрапезников и благодетелей; в глубине девятого круга, в ледяном озере – Джудекке – три пасти Люцифера вечно терзают главных злодеев человечества – предателей величества божеского (Иуда) и человеческого (Брут и Кассий).
У Мильтона ад представляет собой «бездонный мрак», «где муки без конца и лютый жар Клокочущих, неистощимых струй текучей серы» (Мильтон, 25 ; кн. 1) ; о холоде, неизменно контрастирующем с жаром в средневековых описаниях ада, Мильтон почему-то забывает.
Основные метафоры: печь, пасть, кухня, кузница
Пластический образ ада весьма часто вырастает из одной метафоры. Три такие метафоры, связанные с типичным для демонологии мотивом пожирания душ (см. Пожиратель людей), повторяются особенно часто: это метафоры печи, пасти и кухни.
Ад – пожиратель, который не может насытиться: «Преисподняя и Аваддон – ненасытимы» (Притч. 27:20) . В средневековой монастырской книге Афона ад назван «жрущим» (Эрих, 27). В раннее Средневековье образ ада ассоциировался с медным идолом язычников (Молоха, например), требовавшим жертвоприношений (связь указана у Эриха, 26-30). Отсюда уподобление ада печи, нередко с человекоподобными чертами. В патристике отождествление ада с печью мы встречаем, в частности, у Иеронима; оно навеяно книгой пророка Даниила, где мотив раскаленной печи повторяется весьма настойчиво. Комментируя строку: «Вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен сыну Божию» (Дан. 3:92), Иероним объясняет: «По типу своему этот ангел или сын Бога – префигурация Господа нашего Иисуса Христа, который сошел в адскую печь (ad fornacem descendit inferni), где заключены души и грешников и праведных, чтобы освободить от жара и от [прочих] наказаний тех, кто был там связан узами смерти» (Иероним, Комментарий на книгу пророка Даниила. Col. 511).
Итак, под влиянием книги Даниила в патристике возникает образ ада как огненной печи. В «Видении св. Павла» фигурирует «огненная печь, огонь в ней пылает семью языками пламени разного цвета (per septem flammas in diversis coloribus), и в ней наказываются грешники». Число языков пламени, возможно, соответствует числу смертных грехов. Вокруг печи совершались семь мук: снег, лед, огонь, кровь, змеи, удары молнии, смрад (Видение св. Павла, 3-4). Эти словесные описания в свою очередь оказывают влияние на иконографию ада. Так, в Утрехтской псалтири ( IX в.) ад изображен в виде горящей печи, украшенной сверху гигантской головой; грешники втягиваются в нижнее отверстие печи, а из верхнего отверстия вырывается пламя. На фресках церкви Кампо-Санто в Пизе ад-пожиратель изображен как железная печь, захватывающая, пожирающая и переваривающая (что тоже показано) людей; это печь-чрево, воплощающая библейский образ: «из чрева преисподней я возопил» (Ион. 2:3).
Из раннехристианских текстов, содержащих впечатляющее описание адской печи, следует отметить следующую историю, рассказанную в «Речениях старцев» (IV - V вв.). К деве, выбирающей жизненный путь, является некто «огромного роста и с ужасным лицом» и ведет ее в рай, где она видит блаженство своего праведного отца, а затем в ад («в место мрачное и темное» – «domo tenebrosa atque obscura»), где странный вожатый (конечно, далекий прототип дантовского Вергилия) «показал мне (рассказ ведется от первого лица – А. М.) печь, огнем пылающую, и смолу кипящую, и неких видом ужасных и над печью стоящих. Я же, глянув вниз, вижу мать мою, в печь по шею погруженную, скрежещущую зубами и огнем горящую, и червя, производящего великий смрад» (Речения старцев: Vitae patrum, lib. VI, Libell. 1, 15, Col . 996-997).
Другая, еще более откровенная визуализация мотива пожирания – изображение всего ада (а не одного лишь входа в него) в виде разинутой пасти – восходит к Библии: «Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются кости наши в челюсти преисподней» (Пс. 140:7); «преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою» (Ис. 5:14). Иконография часто придает этой пасти сходство со львиной пастью, что опять-таки связано с библейским мотивом дьявола-льва, пожирающего грешника («спаси меня от пасти льва» – Пс. 21:22), или же с пастью Левиафана.
Самые ранние изображения собственно «пасти ада» относятся к началу XI в. и имеют два основных иконографических типа: пасть либо открывается снизу вверх, и грешники падают в нее, либо открывается горизонтально, и грешники входят в нее.
В аллегорико-назидательной и сатирической литературе мотив жрущего ада находит выражение в гротесковом образе ада как кухни и пиршества. Французский трубадур Рауль де Гудан (деят. 1200-1230) описывает в своей поэме «Сон об аде» пиршество Сатаны в аду, на коем присутствуют в числе почетных гостей Пилат и Вельзевул: скатерти сделаны из кожи ростовщиков, салфетки – из кожи старых потаскушек; среди лакомств – борцы под чесночным соусом, жирные шпигованные ростовщики, публичные девки с зеленой подливкой, еретики на вертеле, жареные языки адвокатов и т. п. В средневековых видениях пирующими нередко оказываются и смертные грешники: им подносят бокалы, наполненные огненной жидкостью, жаб и змей, сваренных в сере (Гуревич. C. 233).
Наконец, ад может представляться гигантской кузницей (или совокупностью огромного числа кузниц), на наковальнях коей души подвергаются расплющиванию: как выражается средневековый французский переводчик «Видения Тнугдала», души в аду плавятся в огне дольше, чем металл при выплавке колокола, и куются молотом так, словно кузнец хочет сделать из них маленькие гвозди ( Оуэн, 119 ); о еде в так понимаемом аде уже нет и речи. Характерный пример ада-кузницы – кельтское «Плавание святого Брендана» ( X в.): корабль подплывает к пустынному острову, покрытому шлаком и окалиной; путешественников оглушает шум молотов, бьющих по бесчисленным наковальням; обитатели острова, косматые и черные лицами, с воем бегут к кораблю и закидывают его кучами спекшегося шлака, вода вокруг корабля начинает пениться и путешественники в ужасе ретируются; Брендан объясняет попутчикам, что они были близко к аду ( Оуэн, 23-24 ).
Муки грешников
Ужасы ада настолько чудовищны, что грешники, согласно Данте, сходят с ума, «свет разума утратив навсегда» ( Ад, 3:18; нельзя не отметить, что этому утверждению противоречат многочисленные места «Ада», где души осужденных рассуждают вполне разумно). Сведения об адским муках сообщают души умерших грешников, которым удается вступить в контакт с живыми людьми. Одна из первых таких историй содержится в «Речениях старцев». Авва Макарий, прогуливаясь по пустыне, обнаруживает среди песков высохшую человеческую голову, которая оказывается говорящей. Она сообщает, что принадлежала «главному языческому жрецу этих мест» (ego quidem princeps eram sacerdotum idolorum, qui in hoc loco habitabant). Этот жрец, разумеется, находится сейчас в аду. Авва задает голове вопрос: «В чем ваше (т. е. обитателей ада – А. М.) утешение и в чем ваше наказание»? Голова отвечает: «Насколько небеса отдалены от земли, такой вышины огонь, в который мы погружены с ног до головы, и никто из нас не может увидеть лица другого, ибо лица наши упираются в спины (nec cuidam licet faciem alterius intueri, sed facies nostro dorso conjunctae sunt). Когда же ты молишься за нас, то мы можем отчасти видеть один другого, и это служит нам утешением (pro consolatione)» (Речения старцев: Vitae patrum, lib. III, 172. Col. 797-798).
В этом тексте любопытны и мотив целительного вмешательства святого, молитва которого может облегчить адские муки, – несомненный признак формирования будущей идеи чистилища; и необычность претерпеваемой грешниками муки, состоящей отчасти в невозможности увидеть лица друг друга.
Многие авторы стремились подчинить многообразие адских мук некой нумерологической логике, опять-таки связанной с семеркой и девяткой. Мук весьма часто насчитывают девять – по Бенедейту, девять мук в нижнем аду таковы: огонь, который жжет, не освещая; холод; неумирающие рептилии – змеи и драконы; вонь; бичевания; тьма; смятение грешников; ужасный вид демонов и драконов; железные цепи, которыми скованы члены истязаемых. Однако мук может быть и девяносто девять, и семь – по числу смертных грехов. Старофранцузская поэма «Змей суда» соединяет оба числа: в аду – семь башен, в каждой из них грешники претерпевают девяносто девять мук (Оуэн, 82).
Однако фантазия большинства авторов, живописующих адские муки, не укладывается ни в какие нумерологические рамки. Среди немногих устойчивых моделей, организующих подобные крайне хаотичные описания, следует отметить стремление каким-либо образом уподобить наказание совершенному преступлению: наказание либо направляется на согрешившую часть тела, либо пародирует сам процесс преступления, либо заставляет грешников «насладиться» исполнением своих преступных желаний, но в такой пародийной форме, что желаемое «благо» доставляет одно мучение. В «Апокалипсисе Петра» (кон. I в.) богохульники повешены за языки; убийц поедают змеи под взглядами их жертв; клятвоотступники откусывают собственные языки и губы; прелюбодейницы подвешены за волосы над озером кипящей грязи, а их партнеры подвешены рядом, но только за ноги, так что головы их окунаются в грязь; и все они говорят: «Мы никогда не думали, что попадем в это место». В «Видении Тнугдала» воры должны нести украденное ими по узкому мосту, покрытому железными кольями, ранящими cтупни; под мостом бушует озеро, волны которого достигают неба; оно кишит хищными тварями, которые пожирают всех, кто срывается с моста. Похотливые беременеют ядовитыми змеями, которые, рождаясь, вылезают из всех членов несчастного, протыкая его острыми огненными клювами и когтями.
Другой способ упорядочить наказание – ввести его количественную градацию сообразно тяжести преступления. В инфернальную реку клеветники погружены по колено, нераскаявшиеся прелюбодеи – по пуп; те, кто ссорился в церкви, – по губы; те, кто радовался несчастьям ближнего, – по брови (Видение св. Павла, 4). В «Видении Альберика» грешники погружены в лед на ту или иную глубину, в соответствии с их грехами (Оуэн, 252).
Довольно часто наказание представляет собой целый цикл процессов, пародирующих смерть и возрождение, причем в этой пародии возрождение не менее мучительно, чем смерть. В «Видении Тнугдала» ангел ведет визионера в глубокую долину, полную горящих угольев и ужасного смрада и закрытую крышкой; грешники падают на крышку и поджариваются на ней, расплавляясь, как воск, а потом проваливаются вниз, в огонь, где возрождаются для новых мук. Ангел объясняет, что здесь мучаются убийцы и что через некоторое время они будут подвергнуты новым, еще более тяжким мукам. Предателей демон гоняет раскаленным железным шестом вокруг горы, с одной стороны огненной (горящей «темным» фосфорным огнем), а с другой стороны – снежной и ледяной. Люцифер «при каждом выдохе извергал из глотки души осужденных и развеивал их по всем областям ада... А когда он вдыхал, он втягивал все души назад и, когда они падали в серные испарения его утробы, пережевывал их...», что, естественно, повторяется до бесконечности. В другом месте демоны расплющивают души молотами на наковальнях, так что они становятся совсем крохотными и тем самым как бы превращаются в детей, чтобы претерпеть заново весь цикл наказания. В описании ада у Винсента Бове демоны заталкивают в глотки грешникам раскаленные монеты, те давятся и изрыгают их, но лишь затем, чтобы получить их обратно. В том же аду демоны бросают грешные души в кипящие котлы, где они становятся подобны новорожденным младенцам; затем их вытаскивают оттуда железными крючьями, и они приобретают прежний облик, но их снова бросают в котел, и пытка повторяется (Винсент Бове, кн. 28, с. 15). Мука бесконечно повторяющимся процессом – едва ли не самый основной мотив в описаниях наказаний грешников: безжалостные ростовщики до бесконечности жуют собственные языки; молодые женщины, убившие своих незаконнорожденных младенцев и скормившие их свиньям, лежат в черных одеждах, покрытые смолой и серой, в то время как четыре «злых ангела» беспрестанно наносят им раны своими огненными рогами и требуют от них, чтобы они признали Сына Божия; однако преступление их таково, что им отказано в раскаянии (Видение св. Павла, 4); некий человек сидит на пылающем троне, а прекрасные женщины всю вечность напролет бросают ему в лицо горящие головни, которые проникают ему прямо в кишки; другого грешника – в прошлом жестокого тирана – демон освежевывает и посыпает солью, повторяя этот процесс, как только грешник вновь обрастает кожей (Видение монаха Гунтельма, Винсент Бове, кн. 30, с. 16) . Все совершающееся в аду не ведет ни к какому результату, ни к какому изменению в состоянии грешников; пытки, при всей ужасающей реальности причиняемой ими боли, в то же время абсолютно призрачны, поскольку не оставляют никаких следов: отрубленные члены вновь и вновь отрастают, раны затягиваются, и все начинается сначала. Полная безрезультатность происходящего (которое с этой точки зрения трудно назвать происходящим) совершенно воплощает ветхозаветное проклятие: «Будут есть, и не насытятся; будут блудить, и не размножатся» (Ос. 4:10).
Вопреки богословским догматам, средневековая фантазия все же дает грешникам возможность отдыха от мук. Отдых по воскресеньям души получили после посещения ада апостолом Павлом и архангелом Михаилом (Видение св. Павла, 3). Якоб Ворагинский рассказывает о том, как св. Григорий, проходя через римский форум Траяна, вспомнил, сколько добрых дел сделал император-язычник и попросил Бога спасти его от адских мук. Голос ангела ответил ему, что Траян останется в аду, но мук чувствовать не будет, «ибо душа может быть в аду но, по милости Бога, не чувствовать никакой боли» ( Золотая Легенда: Житие св. Григория-папы ).
Пламень и лед
Сочетание холода и жара с давних пор присутствует в описаниях ада. Уже талмудическая книга Зогар утверждает, что в аду сочетаются огонь и лед; при этом адский огонь был создан на второй день творения (Ришар, 42). В одном из первых описаний христианского ада (Видение св. Павла, 4) обижавшие сирот и вдов помещены в ледяное место, которое частью нестерпимо холодно, а частью полно столь же нестерпимого пламени. О том же говорит и цитированная выше «Книга о трех обиталищах».
И все же именно огонь является главным орудием адской пытки; при этом огонь вполне реален, хотя и имеет совершенно особую природу. Правда, некоторые богословы, в числе коих Ориген и Кальвин, понимали огонь метафорически. «Каждый грешник сам для себя зажигает пламя собственного огня, – утверждает Ориген . – Материей и пищей для этого огня служат наши грехи» (О началах, 2:10:4).
Однако и Библия, «не дающая повода понимать под адским огнем метафору» (Баутц, 116), и вся история христианской мысли поддерживают и развивают мотив реальности адского пламени. В «Мученичестве св. Поликарпа» (II в.) говорится о том, что святым мученикам огонь, разводимый их палачами, кажется холодным, поскольку перед их глазами стоит подлинный огонь – адский; сам Поликарп отвечая проконсулу, который угрожает ему костром, противопоставляет огонь на час и вечный огонь ада (Ришар, 48).
В то же время, признание реальности адского огня ставило перед богословами проблему: каким образом материальный агент может влиять на духовную субстанцию – душу. Сходились на том, что адский огонь, будучи вполне реальным, имеет совершенно особую природу. В частности, этот темный, «фосфорный» огонь, обжигая, не светит. Но это не самое главное: он обладает способностью не сжигать то, что обжигает. Тертуллиан проводит различие между скрытым и внешним огнем – первый не просто пожирает, но и восстанавливает вновь и вновь то, что им пожрано. Августин посвящает главу (О Граде Божием. Кн. 21, гл. 10) вопросу, «может ли огонь геенны обжигать демонов», и отвечает на него утвердительно, ссылаясь на Иисуса Христа («идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» – Мф. 25:41). От дальнейших разъяснений он уклоняется: и в самом деле, «почему... нематериальные духи не могут понести наказание неким таинственным образом в материальным огне, если души людей, которые безусловно нематериальны, помещены сейчас в материальных телах, а в грядущем мире будут нераздельно соединены со своими телами?»
В конечном итоге, почти все богословы сочли за лучшее согласиться в этом трудном вопросе с Фомой Аквинским, который утверждал, что «огонь действует в душе не вливанием (non per modum influentis), но удержанием» (цит. по: Баутц, 117) – т. е. огонь не добавляет в душу своей субстанции, не проникает в нее, но как бы парализует, привязывает ее к замкнутому, ограниченному месту, лишая свободы волеизъявления.
Иуда в аду
Иуда – главный грешник человечества, и потому его муки и его судьба в аду составляли предмет особого интереса. Монах Гунтельм в самой глубине ада видит человека, распятого на крутящемся колесе, – колесо не закреплено на оси и с великим шумом проваливается куда-то вниз; монаху объясняют, что это был Иуда (Видение монаха Гунтельма, Винсент Бове. Кн. 30, с. 16). «Плавание святого Брендана» дает целую выразительную историю об Иуде: Брендан и его спутники видят скалу (расположенную недалеко от входа в ад), на которой сидит уродливый косматый человек, истязаемый ударами волн; перед ним, на двух железных шестах, развивается, как куль, какая-то одежда, бьющая его по лицу; это Иуда, получивший по случаю воскресенья отпуск от основных мук. Иуда говорит, что отпуск объясняется совершенными им при жизни добрыми делами: однажды он заложил камнем яму на общественной дороге, и камень этот превратился в скалу, на которой он сидит; он также пожертвовал в храм два железных шеста и подарил прокаженному одежду, но поскольку эта одежда не была его собственной, то и сейчас она не облегчает его участь, но лишь больно бьет по лицу. Муки Иуды расписаны по дням и часам: в понедельник он прикован в верхнем аду к колесу, которое ветер гоняет по всему аду; по вторникам он лежит в нижнем аду на постели, утыканной острыми шипами, а сверху демоны наваливают на него камни; по средам его вновь передают в верхний ад, где попеременно варят в смоле и жарят на железном вертеле; в четверг нижний ад встречает его холодом и тьмой; по пятницам демоны освежевывают его в верхнем аду, а затем огненным шестом сталкивают в кучу соли и сажи, покрывающих его слоем, поверх которого образуется его новая кожа, – это наказание повторяется десятикратно, после чего демоны заставляют Иуду пить расплавленные свинец и медь. В субботу он попадает в глубокий каземат в нижнем аду, настолько вонючий, что ему хочется блевать, но он не может, так как выпитые в пятницу свинец и медь закупоривают его глотку, и в результате он раздувается, как пузырь, готовый вот-вот лопнуть. Наконец, воскресенье приносит некоторое послабление: Иуда попадает на пустынный остров у самого входа в ад, где и оплакивает свою участь – занятие, за которым его застает святой Брендан (Оуэн, 23-24, 61).
Интериоризация ада: ад в душе
Интериоризация ада – с одной стороны, неизбежное следствие аллегорического толкования, применяемого святыми отцами практически ко всем реалиям, упомянутым в Библии: в ходе подобного переосмысления все физические процессы и «реальные» предметы неминуемо оказывались символами внутренних процессов и состояний. Это, разумеется, относится и к описаниям адских мук. Так, Петр Хризолог, епископ Равенны, комментируя евангельскую историю о богаче и Лазаре, где богач, мучимый адским пламенем, просит послать к нему Лазаря, чтобы «омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой» (Лк. 16:24), обращается к евангельскому богачу со следующими словами: «Заблуждаешься, о богач, этот пламень жжет не язык твой, но твою душу, это пламень не языка, но сердца; жар совести (conscientiae calor)...» (Петр Хрозолог, Проповедь CXXII, Col. 533 ). Внешний, физический огонь оказывается, таким образом, внутренним «жаром совести».
С другой стороны, к интериоризации ада приводила не только неумолимая механика аллегорических толкований, превращавшая подряд все внешнее во внутреннее, но и имманентная логика темы ада. С самого начала, как мы видели, в состав адских мук были включены муки душевные, их значение в общей структуре инфернального состояния богооставленности усиливалось, что фактически делало ненужным образ ада как некоего внешнего пространства: ад локализовался в душе. Евагрий определяет ад как «незнание разума, наступающее вследствие лишения возможности созерцать Бога» (Евагрий Понтийский, Capitula XXXIII. Col. 126). В том же, духе рассуждает Григорий Великий. Толкуя строки из книги Иова – «не возвратится более в дом свой» (Иов. 7:10) – он пишет следующее:
«Дом души – то место, где обитают с любовью. (...) Подобно тому как дом – материальное обиталище тела, так и всякой душе станет домом то [место], где она возжелает обитать. “В дом свой больше не возвращается” – [означает что] всякий, отправленный на вечные муки, никогда не возвратится туда, где он полюбил жить. Потому отчаяние грешника вполне может быть названо именем ада (inferni nomine) (...) Тот, кто нисходит в ад, больше не вернется в свой дом, и тот, кого затмит отчаяние, извергнут из обиталища своей души, и вернуться туда больше не может... Человек создан для созерцания Творца, и должен всегда стремиться видеть его и обитать в торжестве (in solemnitate) его любви. Но, оказавшись вне самого себя (extra se) в силу своего непослушания, человек теряет место своей души (mentis suae locum perdidit), ибо, разметавшись на темных путях, он отдаляется от обиталища истинного света» (Григорий Великий. Моралии. Lib. VIII, cap. XVIII. Col. 821).
Место, «обиталище», дом души – близ Бога; отчаяние – это состояние онтологической бездомности, изгнанности из дома. Это состояние Григорий и называет адом, проводя чрезвычайно глубокую аналогию между грешником в «материальном» аду и душой в состоянии отчаяния: подобного тому как грешник в аду уже никогда не вернется в тот дом, который он любит, так и душа в состоянии отчаяния покидает свой дом, обрекая себя на ад бездомности. Ад обретается в душе, покинувшей Бога.
Интериоризация ада влекла за собой и его персонализацию: интериоризированный ад – уже не общее место всех грешников: «Каждый имеет при себе свой собственный ад, когда ощущает последние смертные муки и Божий гнев» (Й. Хокер Оснабург и Г. Хамельманн, Дьявол как таковой. Ч. I, гл. 21-22). Мильтон отождествляет ад с душой Сатаны:
...Ад вокруг него
И Ад внутри. Злодею не уйти
От ада, как нельзя с самим собой
Расстаться
( Мильтон, 103; кн. 4 ).
Сходной точки зрения придерживается и Мефистофель в трагедии Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста»:
У ада нет ни места, ни пределов:
Где мы – там ад, где ад – там быть нам должно.
( Марло, 210 ).
Одно из высших переживаний внутреннего ада передает нам Тереза Авильская, осознавшая ад как самоубийство души, совершаемое ею в полнейшем одиночестве: все муки ада, пишет она, были «пустяком по сравнению с агонией, которую переживала душа. Она испытывала столь острую тоску, тяжесть, скорбь, и столь отчаянную и глубокую муку, что я не могу их выразить. Если я скажу, что вам вырывают душу, это будет слабым выражением, потому что в этом случае есть все же кто-то другой, кто лишает вас жизни. Но здесь душа сама разрывала себя на куски...» (16-17).
 Издательство "Интрада" Издательство "Интрада"
|
|


 Главная
Главная Поэтика
Поэтика Обзоры и рецензии
Обзоры и рецензии Словарь
Словарь Фильмография
Фильмография Библиография
Библиография Интернетография
Интернетография Нужные ссылки
Нужные ссылки Мои работы
Мои работы Об авторе
Об авторе