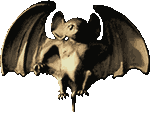| |
Юрий Ханютин
 СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛЯ И МИСТЕРА ХАЙДА СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛЯ И МИСТЕРА ХАЙДА
Волосы встали на голове его дыбом, и он присел без чувств на месте от ужаса. Да и было от чего, впрочем… Ночной приятель его был не кто иной, как он сам, – господин Голядкин, другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как он сам, – одним словом, что называется, двойник его во всех отношениях…
Достоевский «Двойник»
Эта история начинается в старинном замке, за званым обедом – хрусталь, серебро, дрожащий свет свечей, – здесь собрались столпы давно рухнувшей империи, «их лордства» и их «пэрства», величественно игнорирующие XX век с его техническими достижениями и политическими переменами, произносящие тосты за британскую корону и излагающие друг другу планы восстановления и укрепления империи. Впрочем, весь этот обед лишь дань традиции, как и торжественный развод караула перед Букингемским дворцом. На самом деле рухнула не только империя – рухнула идеология, раскололась психология правящего класса, и, чтобы испытать хотя бы секундное ощущение власти над своей собственной судьбой, представитель знаменитого древнего рода Эрл XIII, надев парадный мундир и женскую пачку, имитирует свою собственную смерть в петле, то повисая в ней на секунду, то опять становясь ногами на лесенку, пока, наконец, после неудачного толчка лестница не падает и Эрл XIII уже вполне серьезно и надолго не повисает в петле, – надежда управлять своей смертью оказалась такой же фикцией, как и возможность управлять своей жизнью или историей.
Странный – иронический и горький, саркастический и жутковатый фильм поставил режиссер Медак по пьесе Питера Барнеса «Правящий класс». Фильм, в котором социальный анализ переплетается с фрейдистским, трагедия переходит в фарс, а психологическая драма неожиданно оборачивается мюзиклом.
Но история, рассказанная Барнесом и Медаком, началась, в сущности, гораздо раньше званого обеда, не при пламени свечей, отгораживающих героев от века электричества, атома и революций, а при свете газовых фонарей на улицах ночного Лондона, где некий мистер Хайд с необъяснимой жестокостью наступил на упавшую девочку, а потом забил насмерть в беспричинной ярости достопочтенного и престарелого мистера Кэрью.
В 1885 году Роберт Луис Стивенсон написал небольшую повесть «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда», которой была суждена долгая жизнь в литературе – уже в 40-е годы нашего века о ней с восторгом вспоминал Томас Манн, писавший в это время своего «Доктора Фаустуса», – и еще более долгая и славная жизнь в кинематографе: до настоящего времени известно около двадцати экранизаций «Доктора Джекиля и мистера Хайда». Первая из них датирована 1908 годом, последняя из отмеченных в работах по фантастике – 1968-м.
Что же властно влекло к этой повести известных режиссеров, таких, как Рубен Мамулян, Жан Ренуар, Виктор Флеминг, Теренс Фишер, и еще более известных актеров, среди которых Джон Барримор, Фредерик Марч, Спенсер Трейси, Жан-Луи Барро, Джерри Люис? Должно быть, странная метаморфоза, которая происходит с героем, почтенным доктором Джекилем, превращающимся временами в ужасного, мерзкого, исполненного всех пороков Хайда. Должно быть, открытие, сформулированное Стивенсоном в посмертном признании Джекиля: «Я понял, что человек на самом деле не един, но двоичен... В своей личности абсолютную и изначальную двойственность человека я обнаружил в сфере нравственности» (1). В повести рассказывалось, как доктор Джекиль нашел препарат, который позволил ему дать независимую жизнь своей злой, греховной части, и как постепенно это освобожденное зло становилось сильнее, самостоятельнее, как доктору Джекилю было все труднее возвращаться в свою добродетельную оболочку, пока, наконец, дьявол Хайд не стал его единственным обличьем.
Но какое отношение имеет ко всему этому «Правящий класс»? Самое прямое. Дело в том, что покончившего с собой Эрла XIII по неукоснительной традиции должен сменить Эрл XIV и именно с ним произойдет эта странная трансформация от добра к злу, правда, без помощи таинственного снадобья, а путем шока, вызванного доктором-психиатром! «Правящий класс», таким образом, оказывается в конце долгой цепи фильмов, трактующих странную двойственность человеческой природы и ведущих свое начало от упомянутой повести Стивенсона.
Вернемся к этому началу.
Итак, мотив двойника.
Автор структуралистской работы по фантастике «Фантастическое кино как мифология» Жерар Ленн даже утверждает, что «двойник в фантастике более, нежели тема. Это тематическая структура» (2), ибо ряд тем организуется вокруг мотива двойника.
Это один из постоянных излюбленных мотивов литературы и кинематографа, выражающий многосоставность, противоречивость личности, усугубленную буржуазной действительностью, навязывающей человеку решения и поступки, противоречащие его сути.
В прямой или скрытой форме, как соединение в одном персонаже противоположных, несочетаемых как будто бы личностей, эта структура присутствует в ряде самых выдающихся фильмов западного кино. Вспомним хотя бы чаплиновского миллионера из «Огней большого города», который в пьяном виде относится к Чарли как к лучшему другу, а в трезвом выгоняет подозрительного бродягу из своего дома. Алкоголь высвобождает естественную человеческую личность из-под гнета классовых, сословных предрассудков и заставляет миллионера относиться к Чарли просто как к человеку, вне его социальной принадлежности. Феномен отчуждения Чаплин представляет в комедийной форме, как бы выворачивая явление наизнанку, демонстрируя его парадоксальное преодоление.
Комедия уступает место трагическому гротеску в фильме «Мсье Верду». Маленький банковский служащий, уволенный с работы во время кризиса, оказывается убийцей четырнадцати женщин. Нежный муж и заботливый отец для пропитания семьи занимается кровавым бизнесом. Чаплин сам дал Верду точную характеристику. «В фильме выведен самый чудовищный образ, который когда-либо появлялся на экране, и в то же время образ в высшей степени человечный» (3). Двойственность мсье Верду не является результатом некой патологии. Чудовищность поступков Верду – отражение чудовищности природы общества бизнеса. Чаплин проводит эту мысль откровенно, публицистично, порой даже несколько прямолинейно.
Отвечая прокурору, Верду доказывает, что в его преступлениях нет ничего исключительного: «Что касается до «массовых убийств», то разве у нас не готовят всевозможные оружия массового истребления людей? Разве у нас не разносят на куски ничего не подозревающих женщин и детей, проделывая это строго научными способами? Что я по сравнению с этими специалистами? Жалкий любитель, не более…» (4).
Характерно, что сюжет «Мсье Верду» Чаплину подсказал Орсон Уэллс, создавший «Гражданина Кейна» – наиболее яркое воплощение сложной, противоречивой личности в кинематографе 30-40-х годов, – фильм, в котором действуют как будто бы несколько Кейнов, совершенно отличных друг от друга, но сосуществующих в одной оболочке, сдерживаемых железной волей их хозяина.
Но почему же при наличии столь крупных, художественно значительных произведений в данной главе уделено больше внимания экранизациям «Странной истории доктора Джекиля и мистера Хайда»? Не только в силу их сравнительной малоизученности. И не только потому, что фантастическая посылка дает явное пластическое выражение мотиву двойничества, определяет структуру произведения в соответствии с поступками двух ипостасей героя, ведущих самостоятельное существование.
Причина внимания именно к фильмам о Джекиле и Хайде серьезнее.
Несомненно, амбивалентность современного человека – одна из центральных тем искусства XX века. Но недостаточно констатировать очевидный факт постоянства этого мотива – двуединого и расщепленного героя. Стоит попытаться понять причины возникновения и устойчивости этой структуры и, наконец, быть может, самое важное, какие потребности общественного сознания и искусства обеспечивала она на разных этапах истории, какие акценты расставляли в этой структуре время и различные художники. И в этом смысле «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» представляет собой чрезвычайно благодарный материал для анализа, позволяя выяснить, как в пределах не только одной структуры, но и одного сюжета на протяжении примерно полувека ставились искусством различные задачи. Ведь не случайно кино почти с маниакальной настойчивостью обращалось к данному сюжету в 20-е, 30-е, 40-е и 50-е годы, создавая при этом фильмы совершенно различные.
С другой стороны, эволюция темы двойника в данном сюжете помогает понять ее движение в тех произведениях, где она существует в скрытом виде.
* * *
Перечитывая «Странную историю доктора Джекиля и мистера Хайда», убеждаешься, что маленькая повесть Стивенсона оказывается на скрещении важнейших процессов. Она подводит итог определенной литературной традиции и в свою очередь является предвестьем качественно новых явлении в искусстве XX века.
В истории литературы и искусства явственно выделяются и художники, для которых мотив двойничества был излюбленным – Гоголь, Мопассан, Достоевский, и периоды, когда двойничество становится знамением времени и выходит на первый план, – это романтизм первых десятилетий XIX века и экспрессионизм начала нынешнего столетия. При глубоких идейных историко-эстетических различиях этих направлений есть и нечто общее, что их объединяет: и романтизм и экспрессионизм в центр произведения ставили обособленную личность. Ее суверенный внутренний мир определял художественный мир произведения. Искусство как бы материализовало чувства, настроения, переживания героя, противопоставляя их миру объективной реальности или даже замещая ее. Так возникает особое двоемирие романтического искусства, на которое еще указывал Гегель: «В романтическом искусстве, перед нами, следовательно, два мира. С одной стороны, мы имеет здесь духовное царство, завершенное в себе, душу, внутри себя примерную… С другой стороны, перед нами царство внешнего как такового, освобожденного от прочно скрепляющего его соединения с духом; внешнее становится теперь целиком эмпирической действительностью, образ которой не захватывает души» (5). Но и в экспрессионизме происходит нечто аналогичное. Как пишет один из его философов Т. Доблер: «У нашей эпохи великий замысел: восстание души! «Я» – создает себе мир» (6).
Мы еще будем говорить о принципиально различном смысле этого «восстания души» в романтизме и экспрессионизме. Пока же существенно выделить общую культурно-историческую предпосылку. Очевидно, в эпохи разочарований в возможностях общественного переустройства философская мысль и искусство делают ставку на индивидуума, на его внутренний мир, противопоставленный внешнему. Идеалы перестройки общества заменяются идеалами нравственного или религиозного самоусовершенствования, или, на худой конец, «внутреннего освобождения»; искусство, которое раньше тратило свои силы на изучение объективного мира, на физиологические очерки и социальную документацию, теперь занимается анализом души, ее потаенных эмоций. В системе двоемирия внутренний мир гипертрофируется, а внешний сжимается, остается лишь как эмпирический, нерасчлененный фон. Так произошло в романтизме, явившемся реакцией на эпоху Просвещения, на неосуществленные надежды великой революции, на капиталистическое отчуждение и выразившем одиночество человека, выбитого из отношении сословного, цехового, патриархального мира и еще не интегрированного новой системой товарно-денежных отношений (7).
Так произошло и в искусстве экспрессионизма, рожденном страхом перед грядущей катастрофой, а затем и разочарованием после неосуществленной, потопленной в крови немецкой революции. И в том и в другом искусстве были реакционные и прогрессивные течения, отвергавшие настоящее с позиций прошлого или будущего. Но в целом и романтизм и экспрессионизм искали объяснения человека не в окружающем мире, а в нем самом или в началах трансцендентных. И вполне естественно, что в системе, где внешний мир представлял производное от внутреннего, его материализацию, противоречивость человеческой натуры, расщепление психики оборачивались пластическим мотивом двойничества, потенции человека, как бы противоположные его истинной природе, материализовались в таинственную фигуру двойника. Некая часть человеческой психики начинает жить обособленной, самостоятельной жизнью. Этот мотив появляется у Гейне и Ламартина, Гофман пишет «Приключения накануне нового года» и Шамиссо – «Необычайные приключения Петера Шлемиля», историю человека, который потерял свою тень. Последнее произведение будет отправной точкой для экспрессионистских экранизаций «Пражского студента» – Стеллана Рийе в 1913 году и Генрика Галеена в 1926-м.
Итак, двойничество выступает как наиболее резкое структурное выражение того внутреннего противоречия между добром и злом в человеке, которое противопоставили романтики цельности человеческой личности у просветителей. Но мотивировка этого двойника меняется. У немецких романтиков вина за расщепление личности и возникновение двойника лежит на нечистой силе. Мотив дьявольского искушения, которым объяснялись неортодоксальные поступки героя в раннехристианской литературе (как, впрочем, и в античной – вмешательство богов), сохраняется. Свобода героя реализуется лишь в его собственном решении подписать договор с дьяволом, как это делают Фауст или Петер Шлемиль. В остальном он остается игрушкой трансцендентных сил. Ю. Манн в содержащей ряд интересных и точных наблюдений статье «Эволюция гоголевской фантастики» замечает, что этот «персонифицированный носитель ирреальной злой силы», очерченный с помощью традиционного набора деталей (гофмановские Песочник, Альбан и т. д., гоголевские Басаврюк, колдун, Петромихали и т. д.), «…высокий, худой человек с острым крючковатым носом, горящими глазами и насмешливо искривленным ртом» уже в «Носе» исчезает. «У Гоголя полностью снят носитель фантастики – персонифицированное воплощение ирреальной силы. Но сама фантастичность остается. Отсюда впечатление загадочности от повести. Даже ошарашивающей странности» (8). Подобную же эволюцию внутри романтической традиции проделывает Эдгар По. Через три года после гоголевского «Носа» он публикует рассказ «Уильям Уилсон» о человеке, которого всю жизнь преследовал его добродетельный двойник, его совесть, пытаясь остановить «несказанное падение и непростительные преступления» героя (9). Рассказ написан как предсмертное признание, как автобиография, прослеженная от детских лет, учебы в колледже, где впервые появился другой ученик, носящий ту же фамилию, так же одевавшийся, даже голос его был похож, хотя гораздо слабее, «и его единственный в своем роде шепот стал эхом моего». Голос – эхо, человек – тень. Генетические связи героя вполне очевидны, как и сюжет преследования: «…я бежал, охваченный паникой, как от чумы; но хоть на самый край света, бегство было тщетно» (10).
В отличие от немецких романтиков и в полном совпадении с Гоголем периода «Носа» ирреальное деперсонифицированно. Тайна разлита во всей структуре рассказа и не раскрыта. Герой говорит о себе: я «являюсь в известной мере жертвою начал, не подвластных человеческой воле», он видит в себе жертву «ужаса и тайны безумнейшего из подлунных видений» (11).
Этот сдвиг в поэтике Гоголя и По был чрезвычайно важен. Фантастическое, лишаясь своего демиурга, своего иррационального носителя, черта, который «сыграл шутку с добрыми людьми», как бы разливается в воздухе произведения, сама действительность приобретает двусмысленный характер, некое добавочное ирреальное измерение. Отсюда был прямой путь ко многим новейшим течениям искусства, в частности, к. немецкому экспрессионизму. С другой стороны, путь вел к неоромантику Стивенсону, который с истинно англосаксонской трезвостью попытался дать вполне реалистическую мотивировку расщепления личности доктора Джекиля, найдя ее в изобретении ученого. А затем и к Человеку-невидимке Уэллса, с помощью особого препарата уничтожившего видимость своего тела и одновременно совершившего психическую метаморфозу своей личности.
Существует, конечно, большое различие между романтизмом с его утверждением самоценной личности, верой в «естественного человека» и экспрессионизмом, в котором интерес к индивидууму соединяется со страхом перед ним, отрицание буржуазного человека со скепсисом в отношении возможностей человека вообще. Но тема двойничества, столь резко выявившаяся в романтизме, для немецкого кино первых двух десятилетий становится наваждением. Она возникает в прямой форме в фильме «Пражский студент», где студент Болдуин продает дьяволу свое отражение в зеркале и его призрачный двойник начинает вмешиваться во все планы Болдуина, расстраивает его женитьбу, убивает его соперника, пока, наконец, доведенный до отчаяния студент не стреляет в своего двойника в зеркале и не падает мертвым.
Если герой По – по характеристике Бодлера – «человек со сверхъестественными способностями, человек с расшатанными нервами, человек, пылкая и страждущая воля которого бросает вызов всем препятствиям; человек со взглядом острым, как меч» (12), если доктор Джекиль у Стивенсона борется до конца с мистером Хайдом внутри себя, то в герое экспрессионизма нет этой незаурядности, этой титанической борьбы. Рядовой человек может стать оборотнем, вампиром, прекрасный юноша – превратиться в убийцу, ярмарочный доктор – оказаться опасным маньяком, посылающим людей на убийство и смерть, покорный глиняный Голем – выйти из повиновения. Каждый персонаж экспрессионистского фильма может нести в себе угрозу. Двойничество перестает быть уделом избранных, оно, как вампиризм, может быть навязано каждому или открыто как дремлющая в нем потенция. Структура двойника наполняется новым зловещим содержанием.
Заслуга же Стивенсона в том, что он подключил традицию романтической фантастики к фантастике научной. Это принесло в одном отношении несомненно плодотворный результат. Как известно, научная фантастика мало занимается разработкой характеров. Ее интересуют не столько люди, сколько проблемы. Человек в лучшем случае выступает как критерий правильности тех или иных концепций. Важно показать новую планету, космический полет, общество будущего, а уж во вторую очередь человека, реагирующего на незнакомые обстоятельства. Скажем, как будет он вести себя в построенной автором модели общества будущего, этот условный, анонимный, несмотря на имя и отчество, сконструированный автором научно-фантастического произведения герой, имеющий своей задачей либо оживлять пустынный пейзаж умозрительной научно-фантастической концепции, либо принять на себя последствия поставленного автором эксперимента. Особость, индивидуализированность героя даже будет мешать чистоте эксперимента. В основных моделях научно-фантастического кино и литературы человек вторичен по отношению к идее. Личность заменяется маской, обычно весьма цельной и чисто функциональной.
В том направлении фантастики, которое представлял Стивенсон, исследование личности было первой и главной целью, здесь он следовал романтической традиции, фантастическая модель способствовала углубленному анализу внутреннего мира человека. Отсюда шли разные линии к экспрессионистской фантастике, и к «Солярису» Тарковского, и к «Заводному апельсину» Кубрика.
Но значение повести не только в этом. Нельзя не согласиться с С. Аверинцевым, когда он саркастически замечает: «Думается, что пора перестать говорить о психоаналитиках как совратителях литературы нашего столетия, которые будто бы принудили писателей делать что-то, в корне чуждое их ремеслу; абсурдность этой концепции в применении к любому большому писателю бьет в глаза», «к новому представлению о «действующем лице» литература спонтанно шла и без психоанализа» (13). Повесть Стивенсона чрезвычайно веское доказательство этого тезиса.
Предсмертное письмо доктора Джекиля, где он раскрывает причину своего падения, могло бы показаться эпигонским переложением лекций Фрейда по психоанализу, если бы не было написано за десять лет до того, как Фрейд опубликовал труды, формулирующие некоторые принципы его психологической теории (14).
«Худшим же из моих недостатков было всего лишь нетерпеливое стремление к удовольствиям», – признается Джекиль, представляя тем самым как бы свое «Оно», согласно Фрейду, то иррациональное, бессознательное, которое и стремится к удовлетворению звериного инстинкта секса и убийства. Джекиль пишет дальше: «…я начал скрывать свои развлечения, и к тому времени, когда я достиг зрелости и мог здраво оценить пройденный мною путь и мое положение в обществе, двойная жизнь давно уже стала для меня привычной… я, поставив перед собой высокие идеалы, испытывал мучительный, почти болезненный стыд и всячески скрывал свои вовсе не столь уж предосудительные удовольствия» (15). Здесь действие механизма «Сверх-Я», осуществляющего запреты общества и культуры. «Таким образом, я стал тем, чем стал, не из-за своих довольно безобидных недостатков, а из-за бескомпромиссности моих лучших стремлений – те области добра и зла, которые сливаются в противоречиво двойственную природу человека, в моей душе были разделены гораздо более резко и глубоко, чем они разделяются в душах подавляющего большинства людей» (16). Вот она, мучительная борьба – «Оно» и «Сверх-Я», приводящее «Я» к неврозу.
Хайд в повести – это материализованное «Оно», и чем больше сдерживает его «Я» доктора Джекиля, сублимируя настойчивые толчки «Оно» в работу, филантропию, тем яростнее это подсознательное вырывается на свободу. Причем, согласно повести, Хайд побеждает, когда Джекиль спит, – как известно, Фрейд считал, что подсознательное особенно резко проявляется во время сновидений.
Любопытно, что сюжет и образы повести возникли у Стивенсона во сне, причем настолько отчетливо, что он записал их почти без изменений.
Если Стивенсон предвосхитил понимание личности как многослойного, многосоставного явления, то в этом он был не одинок и следовал писателю несравненно большего масштаба дарования, а именно Достоевскому. Причем для Достоевского двойственность человека была не только психологическим открытием, но философской проблемой всего его творчества.
Борьба добра и зла, неба и ада определяет движение Мити и Ивана Карамазовых, Раскольникова и других героев Достоевского. С пониманием человека как «поля битвы» между богом и дьяволом, двойственности его природы связаны те «проклятые вопросы», которыми мучается и писатель: о «мере дозволенного», о боге как основе морального кодекса. П. Гайденко в книге «Трагедия эстетизма» показывает прямую связь Достоевского с романтиками в трактовке этой проблематики. Гайденко отмечает, что в «двух безднах» Мити Карамазова Достоевский «почти буквально… воспроизводит мысль Шеллинга о том, что «в человеке содержится вся мощь темного начала и в нем же содержится и вся сила света. В нем – оба средоточия: и крайняя глубина бездны и высший предел неба» (17).
Известно, какое огромное впечатление произвело на Стивенсона «Преступление и наказание». Он даже написал вольную вариацию на эту тему – «Маркхейм», непосредственно предшествующую «Джекилю и Хайду». Так выстраивается линия от романтиков через Достоевского к Стивенсону.
Но «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» странна еще своей устойчивостью и повторяемостью в мировом кино. Почему извечная тема борьбы добра и зла в человеке избрала именно эту структуру, именно этот сюжет? Здесь возникает подозрение, что, опять-таки вполне интуитивно, Стивенсон нашел сюжет, вобравший в себя некие элементы и первичные структуры мифа, ибо именно мифологические матрицы отличаются такой большой устойчивостью и гибкостью по отношению к различным толкованиям последующего времени.
Таким образом, столь модное сегодня и многозначное понятие «миф» в данном случае имеет смысл рассмотреть лишь в соотношении ядра и скорлупы, то есть неких неизменных мотивов и той оболочки, в которую окутывают их время и художник. И если искомый миф в данной структуре наличествует, попытаться понять, как он «работает» в произведении, насколько соответствует потребностям общества, искусства.
* * *
«Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» привлекла кинематограф весьма рано. Уже в 1908 году «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» была экранизирована в Дании. В последующие десять лет в США, Дании, Англии было сделано по крайней мере восемь версий «Джекиля и Хайда», в том числе «Ужасный Хайд» в 1915 году, «Мисс Джекиль и мадам Хайд» в 1915 -м. Повесть давала кинематографу прекрасный пластический материал, возможность удивительных визуальных превращений и авантюрных сюжетных ходов. Перед актерами она ставила неотразимую в своей соблазнительности задачу – персонифицировать две стороны личности, сыграть «про» и «контра» одного человека. Особенно удалось это известному актеру Джону Барримору в фильме 1920 года, поставленном режиссером Дж. Робертсоном.
Но подлинная серьезная история «Доктора Джекиля» в кино начинается с 1932 года, с экранизации, сделанной Рубеном Мамуляном. Этот бывший театральный режиссер был чрезвычайно озабочен тем, чтобы преодолеть свое театральное прошлое, он настойчиво искал приемы чисто кинематографической выразительности. И его поиски увенчались успехом в экранизации Стивенсона.
Фильм начинался звуками органа, музыкой Баха. Как бы глазами доктора Джекиля мы видим клавиатуру, на ней холеные белые руки хирурга; объектив останавливается на дубовых панелях библиотеки, тисненых корешках книг. Вымуштрованный старый лакей подает цилиндр и палку, проход по анфиладе покоев, и только в конце этого эпизода зритель первый раз видит лицо Джекиля в зеркале: строгий, прямой взгляд, безукоризненная нитка пробора, стоячий крахмальный воротник, человек долга, человек твердых норм, непреклонной воли – так представляет его Фредерик Марч. И затем резкий переход в аудиторию: мы видим Джекиля на кафедре с точки зрения студентов, где он развивает свои идеи о разделении хорошего и дурного в человеке, чтобы изгнать это дурное. А потом Джекиль, отказавшись пойти на светский прием, – у постели умирающей; он поднимает на ноги, учит ходить оперированную им девочку. Замысел режиссера и актера понятен: они максимально возвышают своего героя, чтобы тем ужасней было его падение.
Но, прежде чем наступит знаменитая сцена преображения, Мамулян намечает те объекты подавленных желаний, которые потом реализует Хайд. Разговор с отцом невесты – старым полковником, который откладывает столь желанную свадьбу. И встреча с проституткой, которую он спасает от избиения, вносит на руках в ее комнату и с трудом уходит после того, как она, поцеловав его, просит остаться.
Лаборатория, где Джекиль производит свои опыты, – это типичная лаборатория из научно-фантастического фильма начала 30-х годов: колбы, реторты, пробирки, таинственные кипящие жидкости. В декоре режиссер не нашел ничего нового. Но сцена преображения поставлена с техническим блеском и глубокой психологической мотивированностью. Она начинается с того, что Джекиль, глядя на кипящую жидкость, вспоминает об отказе отца невесты в свадьбе, сцену в Сохо, в комнате у проститутки, и потом после паузы герой решительно выпивает жидкость.
Эпизод опять-таки снят как бы субъективной камерой, зритель ощущает себя Джекилем, лицо его он видит в зеркале. И весь фокус этой сцены в том, что она снята без единой склейки – преображение происходит у нас на глазах. В зеркале проступают полосы, морщины, складки на лице Джекиля, мы свидетели его изменения (18). А вслед за этим начинается кружение камеры, все стремительнее, быстрее: на экране только размазанные полосы и гулкое биение сердца, стоны, вздохи в фонограмме; затем верчение замедляется, снова лаборатория, в которой как будто все так же, но вместе с героем мы видим его руку, впившуюся в подлокотник кресла, – не руку, а обросшую шерстью лапу, – потом камера медленно поднимается вверх, и в зеркале является морда зверя с выступающими клыками, спутанными волосами, маленькими глазками, сверкающими из-под тяжелых надбровных дуг, и Хайд, вскочив с кресла, ликующе кричит: «Свободен! Свободен наконец!»
Хайд у Мамуляна и Марча с его отталкивающей внешностью, звериной жестокостью, хулиганскими замашками, когда он, отбив дно у бутылки, готов начать драку с завсегдатаями кабачка и с поразительной ловкостью убегает от погони, прыгает через ступеньки, телом прошибает стеклянную стенку оранжереи, – это, конечно, вариант столь популярного на американском экране тех лет гангстера. Уместно вспомнить, что в один год с «Джекилем и Хайдом» вышел на экран фильм «Лицо со шрамом», а за год до этого – «Маленький цезарь» и «Враг общества». Но дело было не только в мощной художественной традиции толкования образа злодея, а и в реальной проблеме, волновавшей общество. Ведь крупнейшие американские гангстеры тоже представляли собой вариант Джекиля-Хайда: Аль-Капоне, бывший нежным сыном, добрым братом, игравший Деда Мороза в пансионе у своей сестры и лично убивший более шестидесяти человек; Дайон О'Банион, певший в церковном хоре тенором и носивший под мышками два пистолета, державший цветочную лавку – его хобби были цветы – и застреливший около сорока человек.
Противоречия этого рода встречались отнюдь не только в преступном мире. Американское общество особенно ясно почувствовало беспощадные законы бизнеса в период великого кризиса, но люди, следовавшие им, были хорошими отцами семейства, добродетельными прихожанами. В отличие от романа, где доктор Джекиль кончал самоубийством, здесь его настигала полиция и, как в хорошем гангстерском боевике, жизнь Хайда обрывала пуля полицейского инспектора. И тогда снова преображалось лицо, и место зверя, убийцы занимал добрый доктор Джекиль – смерть искупала вину.
Следованиям голливудским канонам и одновременно велениям фрейдовской теории, вошедшей в эти годы в широкий оборот, можно объяснить появление в фильме двух женщин, отсутствующих у Стивенсона. По отношению к одной из них – проститутке (Мириан Хопкинс) – Хайд реализует инстинкт насилия, по отношению к другой Джекиль проявляет восторг обожания. Как Джекиль неотрывен от своей пуританской строгой обстановки, от традиций и обычаев викторианской Англии, так же Хайд – весь из лондонского дна с его грязными улицами, подозрительными ночлежками, гнилым туманом, едва разгоняемым газовыми рожками.
Фильм Мамуляна, как и сделанный через девять лет в 1941 году фильм Флеминга со Спенсером Трэси в заглавной роли, утверждали незащищенность и хрупкость традиций, культуры, воспитания перед зверем, который ворочается в глубине личности. Самые жуткие сцены в обеих картинах – это моменты самопроизвольного превращения Джекиля и Хайда. Перед торжественной помолвкой Джекиль медленно идет по парку, присаживается на скамейку, видит кошку, бросившуюся на воробья, и через секунду зритель замечает, что рука, схватившаяся за спинку скамьи, скрючилась, покрыта шерстью, и Джекиль, превратившийся в Хайда, в ужасе бежит по парку, закрывая лицо руками.
Спенсер Трэси не делал своего Хайда столь отталкивающим. Преображение было скорее психологическим, чем физическим. Рот растягивался в беспощадной улыбке, обнажая мелкие зубы. Он пытал свою возлюбленную, заставляя ее петь, признаваться в любви, бросал при этом в рот виноградины, одну за другой, и со вкусом высасывая их, холодно, умело, удовлетворенно мучил девушку. Сексуальное удовлетворение он получал от психологической власти над любовницей больше, чем от физического обладания ею. Сцену самопроизвольного превращения он тоже делал без внешних провоцирующих факторов. Джекиль шел ночью вдоль цепи фонарей. Только что перед этим он пообещал девушке, что Хайд больше никогда не появится. Он насвистывает безмятежную мелодию, вдруг сбой, что-то застопорилось, он остановился, точно отгоняя какую-то мысль, тряхнул головой, опять пошел дальше. Опять сбой ритма, пошел медленнее, считая фонари, остановился, вытер потный лоб и вдруг выпрямился – резко, облегченно – и, уже превратившись в Хайда, бросился назад. Трэси играл своего героя не столь подчеркнуто, как Марч, но его Хайд тоже возбуждал ненависть и страх, а Джекиль – сочувствие и жалость. Совсем иное отношение двух составляющих образа – в «Завещании доктора Корделье».
При том, что Ренуар перенес действие фильма в современную Францию, изменил имена (вместо Джекиля и Хайда появились Корделье и Опал), пожалуй, он наиболее близко подошел к сюжету повести Стивенсона, не вводя в него женщин и посвятив значительную часть картины, как это сделано у писателя, самому завещанию Корделье. Но по сути дела фильм Ренуара, сделанный в 1959 году, очень далеко отстоит от повести и традиционной трактовки ее героев.
Корделье – Барро закован в броню условностей, механичен, заморожен в своей социальной роли известного хирурга. А в его Опале – легкость, раскованность, звериная грация. Сам Корделье получает удовольствие быть Опалом – человеком вне общества, его моральных норм. Корделье – лишь оболочка, социальная функция. Только изглоданное сдерживаемыми страстями лицо показывает, как трудно ему существовать в этой роли. Все, что относится к жизни, воплощено в Опале. Корделье – символ отчужденности в современном буржуазном обществе, Опал – его звериные потенции, ждущие случая вырваться из-под запретов цивилизации. Джекиль терзался муками совести и искренне полагал, что хочет избавиться от Хайда – своей дурной половины. Корделье – Барро страдает лишь от того, что не может быть Опалом, поскольку Опал – убийца. Но он не может им и не быть. В этом его трагедия. Смерть несла ему избавление.
Казалось, что фильм Ренуара может стать высшей и последней точкой в переосмыслении мифа Джекиля и Хайда, показав доброго, соответствующего нормам общества Корделье как отчужденного снивелированного человека, а Опала – как человеческий «остаток», не затронутый влиянием культуры, пусть и весьма неаппетитный остаток.
Но в 1968 году в США вышел фильм, имевший как будто бы косвенное отношение к истории Джекиля и Хайда, основанный на реальном случае судебной хроники, тем не менее вливший новую кровь в старый миф… Речь идет о фильме Ричарда Флейшера «Бостонский душитель». В нем рассказывается реальная история некого Дессальво, который был добрым мужем и нежным отцом – жена и две дочки, – а когда на него «находило», он забирался в квартиры обычно пожилых одиноких леди под видом слесаря или монтера и убивал их. Когда Дессальво был арестован, психиатры совершенно точно установили, что в нормальном состоянии он не помнил ничего из того, что делал во время припадков жестокости. Джекиль и Хайд жили в одной оболочке, не подозревая о существовании друг друга. Когда Дессальво раскрыли правду и познакомили двух живущих в нем персонажей, он сошел с ума и стал постоянным обитателем психиатрической лечебницы без надежды на выздоровление.
История Дессальво привлекла Флейшера и исполнителя главной роли. Тони Кертиса не только как парадоксальный патологический случай, они извлекли из нее зловещий социальный смысл. Во-первых, они социально обусловили моменты перехода Дессальво из нормального состояния в убийцу – вот он сидит у телевизора, 1963 год; Америка хоронит Джона Кеннеди, он смотрит на траурную процессию, взгляд его туманится, и он выходит «погулять».
Но главное даже не в этих мотивировках жестокости Дессальво; порой они слишком прямолинейны, иногда вовсе отсутствуют. Авторов убийца интересует как повод, чтобы исследовать общество, в котором он живет и которое его породило. Полиция, изучив ряд убийств – бессмысленных в своей жестокости и садизме, – приходит к выводу, что это дело рук сексуального маньяка, и начинает исследовать дно Бостона. Флейшер применяет в этом фильме полиэкран, и мы видим на шести-девяти экранах одновременно лица, искаженные пороком и обесцвеченные наркотиками, – дешевых проституток, телефонных хулиганов, получающих удовольствие от нашептывания грязных слов в трубку, гомосексуалистов и лесбиянок, курильщиков марихуаны и искателей острых сексуальных ощущений. Полиэкранное изображение разных лиц точно сливается в одну безобразную, гнилую, мерзкую рожу того душевного подполья, которое скрыто за процветающим фасадом города. Само общество оказывается двойственным, оно несет на себе проклятие стивенсоновской фантазии, превращая ее в реальность социального устройства. Джекиль и Хайд – уже не дерзкий опыт ученого, не подавленные импульсы отдельного человека, не безумие одиночек, а будни западного общества, его постоянная составляющая.
И вот ситуация «Правящего класса», с которого начинается эта глава. Парадоксальная и социально неопровержимая, как все в этом фильме.
Доброго Джека Эрла XIV все считают сумасшедшим. Да он и есть параноик, не желающий считаться с окружающим его миром, не желающий видеть окружающего его зла.
Питер О'Тул поразительно играет эту роль, несомненно одну из лучших в его богатом репертуаре. В зал родового замка входит Иисус Христос, причем в его современном варианте, Христос-хиппи, скажем, из знаменитого мюзикла «Иисус Христос-суперзвезда». Длинные золотистые волосы, рассыпавшиеся по плечам, худое лицо, на котором лучатся отрешенные от мира сего и бесконечно добрые глаза. По парку он не гуляет, а порхает, как мотылек, в изящном белом костюме, который домочадцам удалось на него надеть. В нем есть ущербность, болезненность, недаром он столько лет просидел в психиатрической лечебнице и, по мнению доктора, неизлечимо болен паранойей. Но болезнь выражается в кротости и доброте. Это князь Мышкин, который не хочет видеть зла, а если все-таки его заставляют заметить злое, низкое, то он заболевает и повисает на своем кресте, искупая муки и грехи человечества. Строго говоря, кроме этой доброты, да еще веры в то, что он Христос, в Джеке нет ничего ненормального, и даже его божественное самоощущение оказывается полезным: своей небесной кротостью успокаивает буйных душевнобольных. Но именно его доброта, беззаботность приводят одних в недоумение, других в ярость, третьих в ужас – дамы из местного городка воспринимают его простодушие и приветливость как оскорбление их достоинства.
Дядя Чарльз решает упечь Джека в психиатрическую больницу, доктор решает предпринять последнюю попытку его излечения. Для этого он привозит в замок другого сумасшедшего – бога ненависти. Поединок бога любви и бога жестокости – прямая цитата из мифа. Только бог зла в этом идеологическом споре имеет больше доказательств своего могущества. Раздирая себе лицо, испуская электрические искры, он перечисляет свои свершения: концлагеря, массовые убийства, трупы детей.
И бог любви теряет свою неуязвимость, непроницаемость для зла. Он проигрывает в этом библейском поединке, идущем под рев бури и раскаты грома. После приступа встает человек с заторможенными, рассчитанными движениями, ледяным взглядом – человек, излечившийся от любви, низвергнутый в преисподнюю реальности. Он вспомнил свое имя Джек и вспомнил еще, что был когда-то в Англии его тезка-убийца женщин Джек-потрошитель. Гладко причесанные волосы, тщательно завязанный галстук, трость, сигара – респектабельный английский джентльмен, и вдруг срывы – в звериное, в безумную ярость, в сумасшедший кровавый вой, – метаморфоза совершилась: «бог любви» стал «богом ненависти», Джекиль превратился в Хайда. И вот здесь-то происходит самое интересное. Эрла XIV , ставшего маньяком, Джеком-потрошителем, убийцей своей тетки и жены, все считают нормальным, здоровым человеком. Ведь он так разумно призывает к твердости, к разумной жестокости, к введению смертной казни во имя порядка, к беспощадной борьбе с варварами, стоящими у стен империи.
Бедняга Джекиль сегодня должен прятать свою доброту, иначе его просто засадят в сумасшедший дом, а мистера Хайда ждет всеобщее обожание и место в палате лордов.
Так меняются местами Джекиль и Хайд. Такой виток делает история, а вслед за ней искусство, переосмысляя миф, меняя местами полюса добра и зла.
Медак не одинок в своих как будто бы парадоксальных выводах. Ведь и в «Заводном апельсине» «добрый» Алекс преследуется, убивается обществом, а вернувшись к своему естественному состоянию зла, оказывается нужным государству.
Так совпадают Кубрик и Медак в своих конечных выводах о судьбах добра и зла в современном мире, об их переменчивом общественном «весе» и опасной относительности. Кубрик кончает фильм откровенно фарсово, пародийно – снимком обнявшихся и улыбающихся в объектив министра и преступника. Если финал «Правящего класса» и можно назвать фарсовым, то это жутковатый политический фарс. Джек – Питер О'Тул – живая мумия, мертвец, требующий крови, выступает в парламенте с призывами к жестокости и твердости, и ему рукоплещут лорды в мантиях, вдруг превращающиеся в мертвецов в саванах. Режиссер несколько раз, пожалуй, слишком навязчиво, лозунгово, повторяет этот кадр: мертвецы в саванах, покрытые паутиной, на скамейках парламента. Политически давно мертвый, психически давно больной правящий класс.
Но есть в картине и еще одна и, пожалуй, более жуткая финальная точка. Когда камера движется по солнечному оживленному Лондону, провожая в парламент нового лорда Эрла XIV , над улицами, парками, набережными, площадями несется дикий звериный вопль, визг, в котором жажда крови и смерти – некое постоянное звучание, выделенное автором из симфонии жизни современного мира.
При всем том, что заканчивается фильм серией убийств, темой крови, мертвецами, саванами и воплем патологического убийцы, фарс занимает важное место в его художественной структуре и, может быть, точнее всего его можно определить по жанру как мюзикл ужасов.
Но что такое мюзикл? Ведь это не просто набор формальных признаков – пение, танец, речитатив, в чем тогда отличие от оперетты, музыкальной комедии? Это явление идеологическое, воплощающееся в особом стиле, в особом принципе отношения к жизни. Мюзикл – это внутренняя свобода по отношению к произведениям классики, недаром столько их делается на классические сюжеты. Это ирония и пародия, снижение и отчуждение, опять-таки как мироощущение. И это мироощущение царит в «Правящем классе». Поэтому и в трагических, и в комедийных, и в жестоких сценах так естественно герои прорываются в стихию мюзикла, в пародию.
И вот фильм известного американского комика Джерри Льюиса «Сумасшедший профессор» – про застенчивого профессора Келпа, с выступающими, как у Хайда – Марча, зубками, застенчивого до того, что студент-футболист может его положить на полку, и он будет там лежать, боясь возразить обидчику. Но, конечно, профессор изобретает снадобье и превращается в молодого нахала, неотразимого сердцееда, пытающегося соблазнить девицу, которая ему втайне нравится. Все в финале, естественно, открывается, и профессор произносит морализаторскую сентенцию: не надо думать о себе слишком плохо или слишком хорошо. И вволю посмеявшись, зритель, успокоенный торжеством справедливости, уходит.
Значит ли это, что общественное сознание на Западе и искусство перестает тревожить проблема противоречивости человека, его агрессивных инстинктов, его подверженности злу? Нет, конечно, и «Заводной апельсин», как равно и «Правящий класс» или «Бостонский душитель», явное тому доказательство. Перестает казаться необходимой и вызывает иронию сама структура мифа с ее персонификацией добра и зла в полярных фигурах Джекиля и Хайда. Она перестает эффективно «работать» в новых условиях.
Полемизируя с Томасом Манном или его толкователями, накладывающими миф о докторе Фаустусе на судьбу Германии, отдавшей себя во власть фашизма, Станислав Лем замечает, что «дьявол Манна родом из минувшей эпохи. Это индивидуалист, для которого нет места в эпохе масс… Это была эпоха массовых боен, организованных хорошими специалистами. В стенах этих боен гениальность не имела ни малейшего значения, над ней не склонялся дьявол, распознающий великую душу, дабы подвергнуть ее соблазну… Сама мысль о нотариальных контактах с тьмой в ту конкретную эпоху кажется бессмысленной. Мифу не поднять действительность, которая слишком уж сильно отличается от него (курсив мой. – Ю. X.)»(19).
Нечто подобное происходит с историей Джекиля и Хайда. Сегодня западному искусству не нужно специальных снадобий, чтобы морда Хайда выглянула из-за респектабельной физиономии Джекиля, амбивалентность человека, его опасно легкие переходы от добра к злу и обратно, относительность этих понятий в буржуазном обществе отменяют необходимость в фантастических мотивировках. Героине Бунюэля в «Дневной красавице» не нужно снадобье, отделяющее часть ее личности, не нужен дьявол. Ей просто скучно, и она готова до известных пределов платить за приключение, за острые ощущения, позволяющие чувствовать себя личностью. Один из персонажей «Джо», процветающий бизнесмен, сначала убивает неосознанно, потом он уже стреляет в хиппи вместе со своим единомышленником вполне сознательно и хладнокровно. Хайд просыпается на разных полюсах общественной жизни, среди правящего класса и внизу социальной лестницы. Как компенсация и за сытое, унылое существование, и за жизненные неудачи, за отчуждение. Он теряет свою исключительность, становится массовым и даже банальным.
И миф дряхлеет, умирает, пораженный склерозом обыденности, прозаизма. Не нужна его символическая структура, его ясное, четкое и по сути своей высоконравственное деление добра и зла, не нужен его романтический антураж.
Зло выступает в тоге долга, добро именуется мягкотелостью. Все спутано, смешано и в жизни индивида и породившего его общества. И мистер Хайд становится героем эстрадного шлягера, призывающего лучше относиться к нему, потому что «он воплощает вовсе не страх и жестокость, а желание».
(1) Стивенсон Р.Л. Собр. соч. в 5-ти т., т. 2, изд. «Правда», 1967, с. 556-557.
(2) Lenne G.Le Cinema Fantastique et ses Mythologies, Paris, 1970, p. 84
(3) Цит. по кн.: Кукаркин А. Чарли Чаплин. М. «Искусство», 1960, с. 227.
(4) Там же, с. 232-233.
(5) Гегель. Соч., т. 13, с. 96.
(6) Цит. по: Недошивин Г. Проблемы экспрессионизма. – В кн.: Экспрессионизм, М. , «Наука», 1966, с. 20.
(7) Обстоятельный анализ романтизма в статье И.Ф. Волкова «Основные проблемы изучения романтизма». – В кн.: К истории русского романтизма, М., «Наука», 1966, 1973.
(8) К истории русского романтизма, с. 231
(9) По Э. Полное собрание рассказов. М., «Наука», 1970, с. 205-206.
(10) Там же, с. 213.
(11) Там же, с. 200.
(12) Там же, с. 788.
(13) Аверинцев С.С. Аналитическая психология К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии. – В кн.: О современной буржуазной эстетике. М., «Искусство», 1972, с. 135.
(14) В 1894 г. Фрейд опубликовал статью «Защитные невропсихозы», ко торая, как считают, послужила основой его теории, показав механизм вы теснения. Но структурная теория личности появляется в начале 20-х г. (Прим. автора)
(15) Стивенсон Р.Л. Собр. соч. , т. 2, изд. «Правда», 1967, с. 555-556.
(16) Там же.
(17) Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. М., «Искусство», 1970, с. 216.
(18) Хотя Мамулян в интервью «Сайт энд Саунд» в 1964 году сказал, что он никогда не откроет, как была снята эта сцена, но, по мнению Батлера, на лицо Марча были предварительно краской нанесены полосы, и сцена сначала снималась с красными фильтрами, а затем фильтры по степенно убирались, обнажая ранее невидимые полосы на лице героя. (Прим. автора)
(19) Лем С. Мифотворчество Томаса Манна. – «Нов. мир», 1970, № 6, с. 238.
|
|


 Главная
Главная Поэтика
Поэтика Обзоры и рецензии
Обзоры и рецензии Словарь
Словарь Фильмография
Фильмография Библиография
Библиография Интернетография
Интернетография Нужные ссылки
Нужные ссылки Мои работы
Мои работы Об авторе
Об авторе