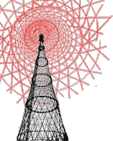 |
Говорит
|
Евг. ПеремышлевКузнечик с ангельской трубойТема и вариации
1. Цель этого сочинения не столько проследить, как создается та или иная литературная традиция (для того следовало бы куда больше внимания уделить собственно традиции, а не отклонению от нее), сколько – показать, что в литературе схожие образы, даже внешне почти неотличимые, либо сходная интонация, на самом деле могут не иметь ничего общего. Тем более справедливо подобное утверждение для произведений, друг от друга во времени отдаленных.
2. Вместо эпиграфа следует отрывок из стихотворной пьесы современного литератора: Зачем, подумал я, в стихах обериута
На заданный им вопрос и надо ответить по ходу дела, чтобы затем прочитать стихотворение целиком и узнать, как ответил на него сам стихотворец, и согласиться с ним либо его опровергнуть.
3. Итак, одно из лучших и, может быть, самое пронзительное стихотворение М.В. Ломоносова это «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для Академии, быв много раз прежде за тем же».
Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,
Чем отлично это произведение от других поэтических опусов сего равно и лирика и естествоиспытателя? Хотя риторика здесь присутствует, она предельно тут смягчена, интонация личная, окрашенная не восторгом (тем более что «внезапным»), а горечью. Если возможно такое определение, это – ода наоборот, сложенная не «на случай», а «на множество случаев», как явствует из заглавия. Из того же заглавия видно, что время и место действия ограничены и определены: дорога в Петергоф, год 1761. Ограничение и определенность тем более странные, ведь стихотворение, похожее на дневниковую запись, есть очередной ломоносовский перевод, но перевод своеобразный. Вот как звучит анакреонтическое стихотворение, послужившее Ломоносову пусть не источником вдохновения (чего уж там! погрузи руку в Кастальский ключ, и вода ускользнет сквозь пальцы, только рука захолонет), а исходным материалом, в переводе более строгом и обезличенном:
Славлю я тебя, цикада!
Сразу бросается в глаза сделанная Ломоносовым подмена: вместо звонкой античной цикады, данницы Аполлона и муз, простак кузнечик, родной и близкий, почти сверчок (тот – за печкой, в тепле и дома, этот – в тепле же, но на воле, в полях, в траве). Случайно ли выбран символ, да и символ ли, ведь символика, пусть в «оде наоборот», зато просящейся в дневник, почти излишня. Откроем словарь, покуда не современный нам, а современный иному времени, книгу «Эмблемы и символы», изданную сперва в 1705 году в Амстердаме по личному указанию царя Петра, а затем переизданную в 1721 году в Санкт-Петербурге, (4) книгу Ломоносову наверняка известную. Вот и сближение, воссоединение даже этих понятий: «Сверчок, кузнечик или коник полевый значит негодного стихотворца, враля, и Аполлона». (5) Ни плохим стихотворцем, ни тем паче вралем Ломоносов себя не считал. Что же до Аполлона, то представить его в качестве синонима Ангелу вряд ли получится. Впрочем, некий смысловой ореол, далекая зарница вспыхнет и осветит и Аполлона и муз, прежде чем захлопнется книга. Цикада (сказано уже в современном словаре, толкующем пору античности) выступает прообразом поэтического творчества (6) – она ж свобода, стоит добавить, чаемая Ломоносовым. Как бы ни было, от античного толкования надобно отказаться, опять-таки, с легкой руки Ломоносова, цикада теперь превратилась в кузнечика и у старательных переводчиков, например, у Н. Гнедича:
О счастливец, о кузнечик,
Стихотворение и названо «Кузнечик», хотя в оригинале оно без заглавия.
4. Прежде, чем вернуться к ломоносовскому стихотворению, образам его и машинерии, стоит задать вопрос, почти разрушающий логику этой работы. Если традиция читается в обе стороны, и от начала к концу, и от конца к началу, сколь Ломоносов своеобразен? Он говорил с кузнечиком, как малый с высшим, но с кузнечиком говорили и как старший с младшим, наставляли, предостерегали.
Кузнечик, мой верный товарищ, Куда тебе дальние страны,
Прежний мотив, вывернутый наизнанку: кузнечик, словно атрибут места (почти что демон). Свобода предельная, и в интонации, и в общении с не себе подобным, разве горечь сменилась тоской. Однако о том и речь, что внешнее сходство искупается внутренней рознью. Обереутская, околообереутская поэтика с поэтикой ломоносовской и случайно не связаны. Вестники, объект интереса чинарей (в миру – обереутов) лишь словесная калька Ангела из «Стихов, сочиненных на дороге в Петергоф…». Когда бы чинарей интересовали ангелы и ангельские чины, они бы не стали переводить это слово на родимый лад, Ангел (с прописной) выделялся бы в их текстах, как возвышается он и в переложении Ломоносова. Сам Ломоносов сомневается: что с ним сделать, куда отнести. Кузнечик, презренна тварь – переставь слова, выйдет почти Достоевский: человек я или тварь дрожащая? – мучается Раскольников. А дрожащая, значит презренная и презираемая, – между тем, он и поет, и свободен, «везде в своем дому» (галлюцинациям и видениям не существует преград, ведь кузнечик – образ онирический, явившийся из снов, путешествующий их посредством) (9). Так в чем дело? Где центральный движущий механизм стихотворения (а выработанность поэтики, подгонка частей позволяют сравнивать поэтические конструкции XVIII века с машинами) и где цель, ради которой механизм и пришел в движение (бесцельно механизмы не конструируют, деталей не подберешь)? Кажется, упор надо сделать на двух последних стихах. В них-то и заключена «личностность» этого опуса, их-то и добавил стихотворец, остальное так ли, иначе было в иноязычном оригинале. Когда же вдобавок вспомнить, что в конце XVIII века начинается новое время, рушится традиционалистская установка, – тут и вовсе долой сомнения, пусть здравствует определенность. Но определенности, отлаженной, очевидной и не хватало самому Ломоносову. Строка об Ангеле, облеченном плотью, равно и о лишенном плоти кузнечике, свидетельствует: и небеса, и лежащий под небом мир видятся стихотворцу смутно. Он, воспевший бури на солнце, поймавший стихом, как зеркалом, блеск и переливы северного сияния, будто не ведал о небесной иерархии и об иерархии живых существ, по крайней мере, подзабыл, когда на дороге в Петергоф складывал свой трагический перевод. Спустя лишь двадцать лет Державин уже не знает сомнений, иерархическая лестница выметена дочиста и сверкает, приглашая следовать со ступени на ступень, от степени к степени:
Частица целой я вселенной, Я связь миров повсюду сущих,
Гаврила Романович Державин (или его лирический герой, разразившийся одой) с торжественной непосредственностью заступает место ломоносовского Ангела. Да и какие ангелы! Всё – человека, всё его – от царства и рабства до пресмыкания и божественности. Тут и прерывается ломоносовская традиция, уступая место новой, где кузнечика понизят из ангелов и возвысят до себя.
5. Внешность обманчива. Казалось бы, чем, кроме пафоса, отличается это стихотворение от ломоносовской «оды наоборот»?
В чертогах смородины красной
Оно отличается главным – субъектом, поставленным в середину поэтического мира и мира физического. Благообразие нарисованной картинки временное, или желаемое и недостижимое. Обереутские и возлеобереутские стихи, того же Н. Олейникова, переполнены насекомыми, несчастливыми и несчастными, словно люди, им самим впору тяжко вздыхать и складывать жалобу, обращенную к ломоносовскому кузнечику. Разочаровывается в жизни блоха мадам Петрова, страшной смертью гибнет голубоглазый и рыжелапый таракан. Мерой стал человек, а малые создания – суть синонимы человеков. В конце концов, на излете и этой традиции, в боли, в надежде бессмертия, уравнение будет сформулировано. Одно равно другому, одно сменяет другое, ничто не теряется так:
Смерти больше нет!
Тут бы и закончить, посчитав ломоносовский перевод случайностью, прецедентом, продолжения не имевшим. Однако продолжение существовало и в существовании своем отталкивалось именно от практики обереутов. Уже в те времена, когда Н. Заболоцкий покинул ОБЭРИУ, да и сами обереуты давно отказались от своего прозвания, он написал стихи, где, вглядевшись пристальней, можно увидеть детали ломоносовской «оды наоборот».
Все, что было в душе, все как будто опять потерялось, И тогда я открыл свою книгу в большом переплете, И цветок с удивленьем смотрел на свое отраженье И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно проснулась,
Удивление вызывает подробность, не включенная в привычную логику: почему кузнечик вооружен трубой? Ну, смычковые инструменты («маленький кузнечик на скрипочке играл»), ну, в крайнем случае, ударные (все ближе кузнечиковой трещотке). Но труба?.. Да, труба, – атрибут ангелов, возвещающих о Страшном Суде, и гремящая в День гнева. (14) О «Стихах, сочиненных по дороге в Петергоф...» напоминает и определение, отнесенное к кузнечику, – «печальная тварь». Уже не «презренная», а представшая в полном величии (ведь строки Н. Заболоцкого повествуют об Апокалипсисе), печалующаяся о живущих. Потому и проснулась природа после того, как прозвучала кузнечикова труба, а старая книга с чертежами и подобиями, отражение книги из Откровения Святого Иоанна Богослова: «И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. 2 И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? 3 И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. 4 И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. 5 И один из старцев сказал мне: не плачь, вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. 6 И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. 7 И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле. 8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых; 9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати; ибо Ты был заклан, и кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени. 10 И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле. 11 И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, 12 Которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь и славу и благословение. 13 И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков. 14 И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков». Конечно, Н. Заболоцкий не претендует на роль искупителя, но кому теперь принадлежит книга, полная знаний о мироздании, высказано стихом напрямую. Откидывая обереутскую практику и неожиданно используя державинские достижения, он продолжил традицию, начатую Ломоносовым. Кузнечику возвращен отнятый ангельский чин, а человекам указано, на кого похожи они, человеки.
6. Теперь можно со спокойной душой прочитать стихи, с которых начиналось рассуждение, стихи, посвященные Н. Заболоцкому.
Зачем, подумал я, в стихах обериута
Здесь стихотворцем смешаны разные временные периоды (не говоря о подмене, обернувшейся отрицанием, кузнечики заместили похоронный оркестр) и потому утрачена перспектива, ответ упрощен. В действительности, тут парадокс: поздний Заболоцкий относится к Заболоцкому тридцатых годов, как обереуты к Ломоносову. И если кузнечик, блистающий ангельской трубой, никак не антропоморфен, то в «Прощании с друзьями» опять появляется жук-человек и «приветствует знакомых». Почему, сейчас промолчим.
М. Ломоносов, А. Сумароков, В. Тредиаковский. Стихотворения. Письма. М., 1999, с. 527-535.
1. Александр Кушнер. Канва. Л., 1981, с. 187. 2. М.В. Ломоносов. Сочинения. М., 1987, с. 207. 3. Парнас. Антология античной лирики. М., 1980, с. 114. Перевод Г. Церетели. 4. Эмблемы и символы. М., 1995, с. 18. 5. Эмблемы и символы, с. 51. 6. Словарь античности. М., 1992, с. 633. 7. Парнас, с. 416. 8. «...Сборище друзей, оставленных судьбою». А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников. «Чинари» в текстах, документах и исследованиях, в двух томах, т. 2. [Б.м.], [б.г.], с. 421. 9. Ср. «Карл Густав Юнг о современных мифах». М., 1994, с. 82. 10. Г.Р. Державин. Сочинения. М., 1985, с. 54. 11. «...Сборище друзей, оставленных судьбою», т. 2, с. 461. 12. Семен Кирсанов. Зеркала. М., 1972, с. 9. 13. Н. Заболоцкий. Собрание сочинений в трех томах, т. 1. М., 1983, с. 180. 14. Джеймс Холл. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997, с. 568. 15. Александр Кушнер, указ. соч., с. 187.
|
|
|