ФУНКЦИЯ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ В ПОЭТИКЕ АЛ. БЛОКА*
Проблема цитаты в художественном тексте — часть проблемы «чужого слова»1. «“Чужое слово” мыслится говорящим как высказывание другого субъекта, первоначально совершенно самостоятельное, конструктивно законченное и лежащее вне данного контекста. Вот из этого самостоятельного существования чужая речь и переносится в авторский контекст»2.
Контекст, из которого берется «чужое слово», может мыслиться либо как неотграниченная речь, либо как текст. «Чужое слово», воспринимаемое как представитель какого-либо текста, есть цитата. Поэтому цитата всегда берется из текста на том или ином «вторичном» языке (языке литературы, науки, публицистики и т. д.), другие же виды «чужого слова» соотносятся с речью на каком-либо естественном языке и связаны со стилевыми, социальными и другими его разновидностями. Поскольку цитата дает отсылку к тексту, а иные виды «чужого слова» — к неоформленной речи, именно цитаты могут выполнять функцию «культурных символов», в то время как в остальных случаях речь идет о воспроизведении высказываний, как бы «взятых из самой жизни», о своего рода «реалиях», денотаты которых — речь живых людей3.
Цитация как художественный прием играет в творчестве Блока огромную и до сих пор не оцененную по заслугам роль — как по количеству реминисценций и по широте культурного диапазона поэта, так и по разнообразию их художественных функций. Блок (подобно Пушкину и Достоевскому) — пример художника с явной установкой на «чужое слово» вообще и на цитату в частности. Эта особенность его творчества, отразившаяся уже в «Стихах о Прекрасной Даме» (хотя полнее всего выявленная в лирике «третьего тома»), определена, по крайней мере, тремя факторами:
1. Связью молодого Блока с эстетикой символизма. Как и все искусство XX в., символизм характеризовался особым интересом к языку, становившемуся, в той или иной его трактовке, не только средством, но и предметом художественного отображения. Сущность мира для символиста — духовная, «незримая очами» (Вл. Соловьев). По отношению к ней любые явления «этого» мира (материальные и духовные, вещи и слова) — вторичные, отраженные и «искаженные». Но для художника-символиста (в отличие от романтика)4 «этот» мир все же не лишен смысла: «все видимое нами» — хотя и «бледный», но отзвук Идеи, ее воплощенное в несовершенных земных формах отражение.
Вторичность, с мистико-символистской точки зрения, «этой» жизни уравнивала реальность и язык в их замещающей функции знака и модели. Она позволяла рассматривать как некие законченные, имеющие самостоятельную структуру «тексты» и систему явлений реальной действительности, и системы естественных языков, и системы культур. Соответственно любые отдельные события жизни, как и любые сообщения на естественном языке или любые факты культуры, оказывались «цитатами» из какого-то из этих текстов. Они наделялись следующими признаками:
— будучи отрывками связного и осмысленного текста, они сами всегда «имели значение». Это значение постоянно определялось как предельно сложное, рационально не выразимое, иногда — как принципиально не познаваемое, иногда — как утраченное или еще не познанное («А пока — в неизвестном живем» — Блок). Однако презумпция значимости «всего видимого нами» для символистов (особенно младших) оставалась непоколебленной;
— являясь частью целого и одновременно представляя все это целое, любые частные высказывания получали двоякий смысл. Их значение определялось местом в системе, но они были и представителями этой системы в целом, ее метонимическим замещением. Такая двойственность значений любой «частности» создавала не только предпосылку для превращения художественных образов в символы, но и была основой для истолкования их как цитат. Однако в таком, специфически-символистском, восприятии «цитатой» могло стать все: и реалии («цитаты из языка жизни»), и любые виды «чужого слова». Все они осознавались как введенные в данный текст отрывки из других текстов, составляющих в своей совокупности универсальный Текст — «миф о мире», денотатом которого является «туманный ход иных миров». Такое художественное мироощущение, с одной стороны, ослабляло специфику цитат в собственном смысле слова. С другой стороны, однако, оно поддерживало постоянный интерес к принципам цитации.
2. Не менее существенным для молодого Блока оказывается и идущее от русской лирики середины XIX в. (Фет, Полонский) и впоследствии кардинальное для символизма представление о том, что созданный искусством мир «выше» реальности. Приоритет искусства над жизнью, как известно, утверждался и «старшими», и «младшими» символистами в полемически заостренной, эгоцентрической форме, как, например, у Брюсова:
-
…поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.
Однако эти утверждения имели потенциально и другую сторону — понимание искусства, культуры как важных составных частей человеческой, исторической жизни, пафос сложности5. Таким образом, если, с одной стороны, «тексты жизни» и «культурные тексты» уравнивались как имеющие общую — текстовую, мифологическую, символическую — природу, то, с другой, они составляли иерархию, в которой вторые оказывались значительно выше, «ценнее» первых. Если попытаться построить типологию художественных методов на основе противопоставления: «преимущественная ориентированность на естественный язык» ↔ «преимущественная ориентированность на “вторичные” языки культуры», то символизм будет ярким примером искусств второго типа.
Отсюда постоянная установка на «синтезирующее» освоение разнообразных культурных традиций и на их организующую роль для «новых течений» русской литературы. «Представителем» традиции в произведении искусства опять-таки часто оказывалась цитата.
3. Наконец, следует указать и еще на один — социально-биографический — источник установки на цитацию в творчестве Блока. Это культурная атмосфера «бекетовского дома». Ее важнейшей особенностью, по мнению самого поэта, были:
-
Свои словечки и привычки,
Над всем чужим — всегда кавычки (III, 314).
Характерной чертой жизни русской интеллигенции XIX в. оказывалась своеобразная ритуализация быта. Все (в частности, и языковые) высказывания воспринимались как имеющие не только практический, материальный смысл, но и смысл знаково-культурный. При этом любое (семейное, социальное и т. п.) «мы» ощущало себя не просто носителем культурной традиции, но и специфическим, индивидуально-неповторимым ее носителем. Это резко обостряло и чувство «других» культур, соотносимых с «нашей» самым различным образом — от почти полного тождества до активного противопоставления. В силу этого все высказывания (и шире — все «тексты», в том числе и «тексты поведения») делились на «свои» и «чужие», что крайне обостряло ощущение «чужого слова», требуя отделения его от «своего» и в плане выражения («кавычки»).
В результате у Блока «первого тома», как у большинства символистов, оказываются функционально сближенными и приравненными к цитатам образы, имеющие самый разный генезис. Таковы, к примеру, следующие случаи:
а)
-
Ему дивились со смехом,
Говорили, что он чудак.
Он думал о шубке с мехом
И опять скрывался во мрак (I, 235).
«Шубка с мехом» — зафиксированная в дневниковых записях Блока реалия, имеющая отчетливо биографический характер6. Однако в рассматриваемом стихотворении этот образ становится не только символико-метонимической заменой Прекрасной Дамы, но еще и цитатой из того символического и «мистериального» «текста жизни», каковым Блоку представляется история его взаимоотношений с Л. Д. Блок.
Образ обнажает свою цитатную природу по разным линиям. Во-первых, он явно не связан с контекстом данного стихотворения и никак из него не выводим. Это заставляет предполагать отнесенность его к какому-то другому контексту — даже если этот последний читателю неизвестен7. Во-вторых, эта отнесенность — именно цитатная, а не свойственная для других видов «чужого слова». «Чужое слово» нецитатного типа («сказ», несобственно-прямая речь) всегда отличается от «своего» стилевой окраской, интонационно-синтаксической (или иной, но всегда выраженной лингвистическими средствами) структурой высказывания. «Шубка с мехом» хотя и несколько отличается от лексики стихотворения предметностью, однако не настолько, чтобы в структуре этого образа отразились какие-то особые, отличающие его от остального текста, пласты естественного языка или правила сочетания языковых элементов. Выделенность образа — лишь знак его принадлежности к «чужому слову» как таковому. Зато цитатность его резко обнажена тем, что «шубка меховая» — часть другого контекста, где образу отведена четко определенная и только ему свойственная роль. Более подробно этот контекст охарактеризован в нашей статье «Частотный словарь “Стихов о Прекрасной Даме” А. Блока и некоторые замечания о структуре цикла» (см.: «Труды по знаковым системам», III. Тарту, 1967).
б)
-
Я шел — и вслед за мною шли
Какие-то неистовые люди,
<…> Передо мною шел огнистый столп,
И я считал шаги несметных толп (1,155).
Выделенная строка — цитата из Ветхого Завета: «Господь же шел пред ними <…> в столпе огненном» (Исх 13:21). В более широком смысле можно считать «цитатными» и образ «я» — водителя толпы, и образы ведомых «людей»8
Нетрудно заметить, что символическое значение образа «огненного столпа» так же неотделимо от его цитатной природы, как и в первом примере. То, что значение образа явно не сводится ни к сумме значений составляющих его слов естественного языка («огнистый столп» =/= «огнистый» + «столп»), ни к сумме окказиональных значений, полученных словом в данном тексте, заставляет искать другие контексты, расшифровывающие его «тайный» (то есть для символиста — основной) смысл9. Знаком того, что эти контексты существуют, оказывается архаическое «столп», слегка выделенное на фоне «высокой», литературной, но не архаизованной лексики стихотворения. Выделенный таким образом элемент воспринимается как «чужое слово». Однако чисто стилистический момент своеобразия подчеркнут не настолько сильно, чтобы заставить нас искать разгадку значения образа только в общеязыковой функции архаизмов10. Стилевая выделенность «огненного столпа» (как и предметность лексики образа «шубки с мехом») играет иную роль: она указывает на сферу поисков «текста-источника». И наконец, из самого текста-источника — повествования о пути иудейских племен в Землю Обетованную — образ «столпа огненного» приходит вместе с отведенной ему ранее строго очерченной структурной ролью (если свернуть описываемую ситуацию к минимальной структуре, где именем-субъектом будет «Бог», именем-объектом — «Моисей и ведомые им племена», а предикатом — «указание пути в Землю Обетованную», то «столп огненный» получит функцию атрибута предиката — способа исполнения божественной воли).
Итак, в ранней лирике Блока реминисценции из культурных текстов и из «языка жизни» (реалии) в ряде случаев могут выступать в сходной функции символа и метонимического представителя «чужого» связного текста. Все они сложно соотносятся с нецитатным словом, значение которого окказионально и определено контекстом блоковского текста, причем целостный смысл стихотворения почти всегда образуется сложным соотнесением значений цитат и нецитат.
Такова «исходная ситуация» — то соотношение цитат, иных видов «чужого слова» и «своих слов», которое сложилось к периоду «Стихов о Прекрасной Даме». Как мы увидим, эволюция Блока во многом изменит иерархию ценностей разных типов реминисценций, особенно отношение цитат (не в символистском, а в определенном нами ниже более узком смысле) и реалий. Существенно трансформируется и понимание того, что такое цитата, и — соответственно — соотношение цитат и нецитат. Но значение цитации как одного из важных принципов в художественном построении текста будет неизменно возрастать.
Прежде чем говорить о типах цитации в творчестве Блока, следует сделать еще одно предварительное замечание. Соотношение планов содержания и выражения в цитате отличается большой сложностью: будучи текстом, цитата имеет оба эти плана, однако как цитата, представитель другого текста, она является выражением, а сам этот текст выступает в качестве обозначаемого. Являясь, прежде всего, представителем «чужого текста», метонимическим символом-заместителем его, цитата у Блока в качестве одной из своих основных функций имеет функцию отсылки к источнику. Она — сигнал обращения к «чужому тексту». Поэтому в определенных случаях цитатам функционально тождественны разнообразные перефразировки «чужого текста», сохраняющие значение сигналов об обращении к этому тексту. Признак же точности / неточности оказывается нерелевантным. Таким образом, цитатами, или реминисценциями, в нашем значении слова, могут быть:
1. Цитаты в собственном смысле — точно воспроизведенные отрывки «чужого текста» (в этом случае «над чужим» у Блока действительно «всегда кавычки» или их типографски эквивалентная замена — курсив);
2. Перефразировки «текста-источника» типа: «Тяжелозвонкое скаканье» («Медный всадник») → «Скок по камню / Тяжко-звонок» (II, 201) или: «В час торжественный заката» («Демон») → «В час торжественный возврата» (III, 307) и т. д.;
3. Сокращенные знаки-указания на тот или иной «чужой текст», в каждом из которых в свернутом виде заключен и их «текст-источник»11. Знаки эти, с точки зрения их функции в структуре «текста-источника», могут быть, например, такого типа:
Имена. Речь идет не только о собственных именах героев, перенесенных из чужого текста, но и вообще о всех «именах художественного текста». Это, в частности, «вечные образы» типа Дон-Жуана в «Шагах командора», восходящие одновременно ко многим источникам, или же персонажи, имеющие более конкретные литературные или культурные адресаты: демон, «рыцарь бедный», Беатриче, Мария Магдалина, Мэри (в первом упоминании образ имеет отсылку к «Пиру во время чумы») и т. д.
Художественные предикаты. Здесь имеются в виду опять-таки не предикаты в узком смысле слова, а слова и словосочетания, указывающие на сюжетные или иные отношения между «именами художественного текста».
Этот тип знаков реже привлекает внимание исследователей, однако роль его значительна. Рассмотрим стихотворение «Когда замрут отчаянье и злоба…» (1908). Отношения персонажей складываются, в частности, из следующих предикатных характеристик:
| I. | И крепко спим мы оба На разных полюсах земли. |
| II. | Ты обо мне, быть может, грезишь в эти Часы… |
| III. | И вижу в снах твой образ, твой прекрасный (III, 129). |
Соотношение персонажей («я» и «ты» предельно далеки друг от друга, но «я» видит во сне «тебя»; «ты» — «меня») дает нам довольно точную отсылку к источнику: «На севере диком…» Лермонтова (или «Ein Fichtenbaum steht einsam…» Heine, интерес к творчеству которого у Блока в эти годы резко возрастает). Вместе с тем сами наименования персонажей и другие их признаки не дают оснований отождествить их с «сосной» и «пальмой»: реминисценцией, «чужим словом» здесь оказываются именно художественные предикаты — указания на характер отношения героев.
Атрибуты. Как и выше, имеются в виду не столько заимствования эпитетов и других определений, сколько перенос из какого-то текста любых признаков имен (персонажей или их окружений). Характерно в этом плане описание окружений героев «Снежной маски»: мир здесь имеет сферическое и круговое строение (поэтому, например, понятия «верха» и «низа», «впереди» и «сзади» и т. д. в нем амбивалентны); герои в нем «проносятся в сфере метелей» (II, 232), «в серебристом лунном круге» (II, 225) и т. д. Этот признак сферичности, «кругов», равно как и признак ледяного холода, оказывается точным воспроизведением атрибутивных характеристик дантовского ада12.
Мифемы. Воспроизводиться в свернутом виде может, наконец, и вся сюжетная ситуация (то есть и отношения персонажей, и их имена). Здесь мы легче всего улавливаем «чужие слова» — «влияния». Так, сюжет стихотворения «Дали слепы, дни безгневны…» (I, 320) складывается, в частности, из следующих моментов:
| I. | В непробудном сне царевны… |
| II. | Кто там скачет в позументах В голубой пыли? Всадник в битвенном наряде… |
| III. | И Царевна, гостю рада, Встанет с ложа сна… (I, 319–320) |
Это сюжет спящей царевны, пробуждаемой Всадником (женихом), идущий на русской почве ближайшим образом от Жуковского и Пушкина. Сам Блок связал формирование автобиографического героя («маленького внука» в «Возмездии») с образом именно пушкинской царевны (см. III, 463). Сюжет спящей царевны (под влиянием также Я. П. Полонского и Вл. Соловьева) у раннего Блока мифологизируется, превращаясь в универсальную мистическую «модель истории» (Вечная Женственность в цепях материального мира и ее грядущее освобождение). В таком виде «миф» преображает пушкинский текст почти до неузнаваемости. И тем не менее отсылка к этому тексту для Блока очень важна — хотя бы потому, что отдельные знаки-эпизоды сюжета (а он здесь особенно важен) являются как бы «свернутой программой», по которой можно восстановить сюжет в целом одним-двумя намеками.
Анализ цитат этого последнего типа (сокращенных знаков-указаний) особенно важен. Из него неизбежно следует, что цитатное слово (в отличие от иных видов «чужого слова») привносит в художественный текст не свой общеязыковой смысл и даже не столько полученное ранее окказионально-художественное значение входящих в него компонентов, сколько указание на место в системе. Именно место в системе здесь — объект цитации (переноса из первоначального в новый текст). Отсюда и основной эффект этого типа цитации — подчеркивание соотнесенности двух целостных художественных структур.
Как видим, цитаты приобретают в литературном произведении особо сложный смысл. Значение «своих» (нецитатных) слов в художественном тексте определяется, как известно, сложным соотношением их общесловарных и окказиональных значений. В цитатах же оно осложнено еще и теми окказиональными смыслами, которые цитируемый отрывок приобрел ранее — в «тексте-источнике». Обилие смыслообразующих факторов, воздействующих на текст цитат, способствует особенно резкому сдвигу их значений (по сравнению с общеязыковым смыслом составляющих цитату слов). Это сближает цитату с тропами-символами (не в символистском, а теоретико-литературном значении этого термина).
С другой стороны, цитата сродни метонимии. Поскольку цитаты выполняют, как было показано выше, роль знаков упоминаемого текста, возникает вопрос о соотношении между цитатой-выражением (словами, представленными в тексте цитаты) и ее содержанием. Здесь можно установить следующие соотношения:
Отношение тождества. Цитата представляет самое себя, то есть, к примеру, фраза, процитированная в тексте художественного произведения, представляет (замещает) эту же фразу из текста-источника. Таких примеров особенно много в юношеском (1898–1899 гг.) творчестве Блока, и они наиболее традиционны (ср., например, отношение стиха: «Освещенная полной луной» — I, 380 — к лермонтовскому: «Озаренная полной луной» — или стиха: «Говорит звезда с звездой» — I, 412 — к лермонтовскому же: «И звезда с звездою говорит» и т. д.);
Отношение метонимичности. Цитата-выражение представляет собой часть цитируемого содержания. Здесь возможны различные случаи:
— цитируемый отрывок — знак цитируемого произведения (Мэри — отсылка к «Пиру во время чумы», Дон-Жуан и Командор в «Шагах командора» — к тексту «Каменного гостя» и т. д.) или какой-то его обширной части («На смерть младенца» и тема страдающих детей в «Братьях Карамазовых», особенно в монологах Ивана);
— цитата — знак творчества данного автора в целом (трехсложники «третьего тома» как знак «некрасовского начала»)13 или какой-то его значительной части (белые пятистопные ямбы «Вольных мыслей» и пушкинское наследие)14;
— цитата — знак цитируемой культуры (так, песня из «Коробейников» Некрасова в финале «Песни Судьбы», говорящей о грядущем слиянии народа и интеллигенции, — знак демократической поэзии XIX в., опирающейся на эстетику фольклора и воспринятой народной средой);
— наконец, цитаты в произведении могут играть еще одну роль — быть знаком некоей общей установки на цитацию, «поликультурного», опирающегося на широкую традицию художественного языка.
Нетрудно заметить, что чем больше разрыв между выражением и содержанием, тем более отчетливо знаковый характер будет иметь цитирование и тем яснее в цитате проявится автономность выражения от содержания. Поэтому в первом случае цитата тяготеет к дословности (по приведенному выше разграничению, это «цитата в собственном смысле слова»). В остальных же случаях она все более явно приобретает характер условного соответствия (например, «Петербург» в творчестве Ал. Блока или Андрея Белого, конечно, не географическое понятие, а достаточно условный знак единой пушкинско-гоголевско-достоевской традиции). Однако эта условность связи выражения и содержания не вполне сродни языковой. Если в языковом знаке господствует соотношение чисто конвенциональное и четко автоматизированное, то в знаке-цитате перед нами ассоциативная, то есть в какой-то мере иконическая, связь (ассоциации при этом могут быть индивидуальными или принадлежать культурной традиции). Так, ритмические перебои в стихотворении «Дух пряный марта…» вызывают ассоциации с романсом Ап. Григорьева, а романс Григорьева — с цыганской венгеркой (ассоциация поддерживается на лексическом уровне образом «венгерского танца», а на общекомпозиционном — темой гибельной страсти). Содержательные соответствия, вызываемые этой ритмической цитатой, носят культурно-конвенциональный характер, но содержат и элементы иконичности: поскольку сходство планов содержания постулируется на основании сходства планов выражения, между самими этими планами предполагается некая безусловная и однозначная связь.
При этом следует отметить, что в реальном художественном тексте (особенно это касается зрелого Блока) читатель имеет дело со своеобразной «игрой» различных цитат, родственной «игре» элементов других уровней произведения. Цитаты разного типа, объема, разного генезиса, разной степени символичности и связанные с различными функциями следуют друг за другом, дополняя и оттеняя одна другую и создавая некий очень сложный ритм. Они вступают в самые разнообразные соотношения друг с другом, причем связи эти в разных аспектах могут быть различными (например, цитаты, имеющие общий генезис и одинаковый объем, нередко резко различаются по функции и т. п.). Наконец, цитата как «чужое слово» сложно коррелирует с другими типами «чужих слов» и с авторским словом.
Из сказанного явствует и то, что понятие цитаты, исходя из данного выше определения, можно распространить и на иные, чем лексика, уровни художественного текста: более низкие или же отсутствующие в естественном языке. Так, можно говорить о метрических, строфических (как это нередко и делают стиховеды), эвфонических и т. п. цитатах. Подобные цитаты часто носят иконический характер, действительно воспроизводя метр, ритм, строфику конкретных произведений (в этом случае, как показали работы К. Тарановского, цитируемая структура должна быть сравнительно уникальной — иначе «информативность» отсылки резко упадет). Примерами таких отсылок в творчестве Блока (преимущественно раннем) могут быть, в частности, очень точные строфические цитаты из Фета в «Ante lucem» и «Стихах о Прекрасной Даме» или частые аллитерации начальных согласных слов в «Снежной маске» — знак аллитерационной поэтики, в свою очередь, символизирующей «северную культуру».
Но и здесь, поскольку речь идет о знаках — заменителях структур, положение зачастую осложняется общекультурными и индивидуально-поэтическими ассоциациями. «Знаком» творчества или даже целой культуры может стать какое-то одно произведение, знаком которого, в свою очередь, выступит какой-то (или какие-то) из низших уровней его структуры. Таким образом, возникший знак — цитата — будет уже весьма далек от иконичности. Примером его может быть устойчивая для молодого Блока ассоциация «пушкинской» поэтической традиции с четырехстопным ямбом15, «лермонтовской» — с мужскими клаузулами, «некрасовской» — с трехсложниками и т. д. Ассоциации эти, особенно в ранний период творчества Блока, были для него настолько устойчивы, что даже обращаясь к лексике пушкинских хореических «Бесов», Блок «переводит» в своем стихотворении его размер в ямбический (см. ниже, с. 376). Механизм возникновения такого, по внешнему выражению уже чисто конвенционального, замещения в некоторых случаях можно проследить с довольно большой степенью достоверности — и тогда в основе ассоциации обнаружатся ее иконические истоки (например, хореический характер всех стихотворений молодого Блока, перекликающихся с образами Батюшкова и Языкова, объясняется тем, что на уровне содержания «батюшковское» начало всегда в эти годы было для него связано с «Вакханкой», а «языковское» — с «Пловцом»). Однако иконичность такого знака, как видим, выявляется лишь в момент его возникновения. Заслоненная в дальнейшем общим обликом представленной традиции, связь знака с текстом на уровне читательского восприятия предстает как условная.
Подобные воспроизведения низших уровней «чужого текста» играют двоякую роль. С одной стороны, они способны действительно «замещать» то или иное произведение или традицию, подобно цитатам на лексическом уровне. С другой (и это особенно часто), они могут сопровождать лексические цитаты и реминисценции, выполняя роль сигналов о цитации или являясь следствием воспроизведения лексики16. Наконец, цитатой в нашем смысле слова, по-видимому, могут быть и знаки-заместители произведений несловесных искусств (картин, музыкальных произведений и т. д.). В простейших случаях может цитироваться словесная часть таких произведений: название картины, скульптуры или архитектурного памятника (ср. стихотворение «Сиеннский собор»), строки романса (ср. «Седое утро» и приведенную там же, в эпиграфе, строку из романса И. С. Тургенева «Утро туманное, утро седое») или оперной арии (цитаты из русского текста либретто «Кармен» в одноименном цикле) и т. д. Однако в этом и проявляется цитатная природа рассматриваемых случаев — отсылка должна вести нас и к основной, то есть внесловесной, части произведения: вызывать в сознании зрительные образы или мелодию текста-источника.
Интересный пример такой цитаты — заглавие второго стихотворного сборника Ал. Блока «Нечаянная радость», воспроизводящее название одной из икон Богоматери17. И заглавие, и содержание сборника, безусловно, предполагают знание читателем всего изображения (на иконе изображалась представшая перед грешником Богоматерь с исходящим кровью младенцем). Современный читатель, не улавливающий в образе Нечаянной Радости цитаты, похож на человека, воспринимающего строку в пушкинском «Из Пиндемонти»: «Все это, видите ль, слова, слова, слова» — как жалобу на излишнюю разговорчивость собеседников поэта. Восприятие каких-то частей текста как цитат резко усиливает ощущение их обобщенно-символического смысла; напротив, неузнавание цитаты приводит к результатам, напоминающим реализацию художественной метафоры наивным читательским сознанием: в образе будут поняты лишь словарные значения составляющих его слов18. «Нечаянная радость» — не синоним «приятной неожиданности»19; образ включает в себя символику греха, страдания, надежды на спасение (не случайно нечаянная («нежданная») радость в поэме «Ее прибытие» — символ революции, отождествленной с явлением Прекрасной Дамы). Содержит он и другие значения, связанные с содержанием иконного изображения и вне его утрачиваемые.
До сих пор мы говорили о тех особенностях цитат у Блока, которые роднят его лирику либо с любым вообще художественным текстом, имеющим «установку на цитацию», либо с творчеством поэтов-символистов. Но цитаты у Блока неразрывно связаны с индивидуальным обликом его поэзии. Здесь следует выделить по крайней мере две основные особенности.
1. Блок, особенно зрелый, часто использует на функции цитат — автоцитаты, играющие огромную роль в поэтическом смыслообразовании. Нам уже приходилось указывать, к примеру, как важно для стиля и смысла «Незнакомки» столкновение «высокой» мистической лексики «первого тома» с «бытовизмами» и реалиями более поздней лирики20. Но лексика «Стихов о Прекрасной Даме» в контексте «второго тома» звучит как цитата, иногда — пародирующая, иногда — поэтическая, но всегда отсылающая нас к другому — и в этом смысле «чужому» — тексту. В творчестве конца 1900-х – 1910-х гг. этот принцип становится одним из ведущих. Ср., например:
-
И вижу в снах твой образ, твой прекрасный,
Каким он был до ночи злой и страстной,
Каким являлся мне. Смотри:
Все та же ты, какой цвела когда-то,
Там, над горой туманной и зубчатой,
В лучах немеркнущей зари (III, 129; курсив А. А. Блока).
Последний терцет стихотворения — явная комбинация цитат, имеющих соответствующие признаки и в плане выражения: курсив, заменяющий, как говорилось выше, кавычки, а также указание: «Смотри».
Но все цитаты этого трехстишия — автоцитаты. «Все та же ты» — слегка видоизмененный стих:
-
…но ты все та же (II, 101).
Остальные образы — отсылки к стихотворениям «первого тома», например:
-
Над горой туманной и зубчатой —
отсылка к:
-
Ты горишь над высокой горою (I, 120)
и:
-
Там, над горой Твоей высокой,
Зубчатый простирался лес (I, 102).
«Лучи», «туманы», «зори» — также сокращенные знаки-отсылки к «Стихам о Прекрасной Даме». Способы их введения и их художественная функция — те же, что и в цитатах из других авторов.
Подтверждением сказанного может служить и такой пример:
-
Быть может, путник запоздалый,
В твой тихий терем постучу (III, 130) —
где цитата из Пушкина (ср.: «То, как путник запоздалый, / К нам в окошко застучит») «расколота» типичной автоцитатой из «первого тома» — «тихий терем».
Функциональное приравнивание автоцитат к цитатам в поздней лирике Блока — важный признак структуры текстов «третьего тома». Именно в 1911 г. Блок осознает все свое творчество как единый «роман в стихах» и вместе с тем как «трилогию». Эта последняя трактовка не только объединяет в творческом самосознании Блока все им написанное, но и четко делит его на части (ср. выделение периодов «тезы», «антитезы» и «синтеза» символистского творчества в статье «О современном состоянии русского символизма», 1910). Создается основание для взгляда на «первые части» «трилогии» как на отдельные и вполне самостоятельные, но в то же время постоянно соотносимые с «третьим томом» произведения, а на выдержки из них — как на цитаты. Но при этом, поскольку творчество 1910-х гг. ощущается Блоком как «синтез», обращение (то полемическое, то подтверждающее истинность сказанного) к прошлому творчеству становится неизбежной и устойчивой формой поэтического самосознания, тем более что и сама тема эволюции лирического героя становится для зрелого Блока одной из основных.
2. Полигенетичность. На эту особенность цитат у зрелого Блока указал в своей исчерпывающей работе о «Розе и Кресте» В. М. Жирмунский. Говоря о генезисе поэтической формулы «радость-страданье», В. М. Жирмунский приводит примеры из блоковского перевода баллады Вильмаркэ, из упомянутых самим Блоком произведений провансальских трубадуров и из А. Григорьева (последний — со ссылкой на работу Д. Д. Благого «Блок и Ап. Григорьев»). Отметив, что все эти образы «радости-страданья» близки к «центральным переживаниям поэта в третьей книге его стихов», исследователь указывает на неслучайность для Блока восхождения одного и того же образа к нескольким источникам одновременно — на «возможность своеобразного “полигенезиса” — нескольких поэтических источников, одновременно притянутых жизненным переживанием»21. Следует, однако, оговориться, что, на наш взгляд, полигенетичность играет в поэтике зрелого Блока более важную роль, чем это явствует из монографии о «Розе и Кресте». Если цитата — один из важнейших эстетических формантов в лирике «третьего тома», то цитата полигенетичная — основной вид цитат в блоковских произведениях 1910-х гг. Причинами тяготения именно к такому виду «чужого слова» являются:
а) пафос историзма и сложности в творчестве зрелого Блока. Отказавшись от символистски-отвлеченных утопий «синтеза», Блок, однако, наследует соловьевский пафос культуры, истории. Он определяет установку на поликультурный генезис цитат, на интерес к самым разнообразным эпохам истории человечества. В соединении с тягой к суггестивным, сжатым образам это порождает появление образов полигенетичных, где одна и та же цитата — отсылка к нескольким контекстам одновременно;
б) последняя особенность полигенетичных цитат позволяет им играть еще одну важную роль в поэтике Блока. Полигенетичность способствует появлению художественной многозначности слова — непременного условия возникновения символа. В художественный текст полигенетичная цитата приходит как представитель нескольких текстов, в каждом из которых она получила свой, окказиональный смысл. Но, будучи знаком этих нескольких текстов одновременно, их «сокращенной программой», такая цитата сохраняет в свернутом виде и все значения, которые она в них ранее приобрела. В этом — особая семантическая близость полигенетичных образов и символов.
Каков конкретный механизм создания полигенетичных цитат?
Здесь можно назвать два основных способа:
1. Эффект полигенетичности возникает в результате своеобразного «монтажа» цитат, имеющих разное происхождение. Этот способ создания полигенетичных образов можно назвать синтаксическим. Рассмотрим начало раннего стихотворения Блока «Еще воспоминание»:
-
Опять я еду чистым полем,
Всë та же бледная луна,
И грустно вспомнить поневоле
Былые счастья времена.
Как будто я влюблен и молод,
Как будто счастье вновь живет,
И летней ночи влажный холод
Моей душе огонь дает и т. д. (I, 414–415).
Первый катрен содержит и прямую цитату из «Бесов» Пушкина («Еду, еду в чистом поле» → «еду чистым полем»), и ряд сокращенных отсылок к этому же тексту:
— рифму в 1-м и 3-м стихах: «поле (полем) — поневоле»;
— строфическую цитату (катрен с перекрестными женскими и мужскими клаузулами; впрочем, широкая распространенность такого вида стиха, как уже говорилось, резко снижает его информативность как отсылки к какому-то конкретному тексту); стопность;
— структуру 3-го стиха: «Страшно <…> поневоле» → «Грустно <…> поневоле»;
— указание на известную общность настроения, возникающую как инвариант значений «страшно» и «грустно».
Второй катрен обращает нас к другому источнику — стихотворению Я. П. Полонского «Качка в бурю», строки из которого Блок привел как пример своих самых ранних лирических впечатлений:
-
Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен. Мечты кипят.
От зари роскошный холод
Проникает в сад (VII, 13).
Здесь перед нами опять сочетание прямой цитаты («Я <…> молод. Я влюблен» → «Я влюблен и молод») с сокращенными знаками-отсылками к тексту:
— рифмой в 1-м и 3-м стихах: «молод — холод»;
— строфической цитатой;
— указанием на известную общность настроения — воспоминание о прошлом счастье и молодости («снится мне» → «вспомнить / Былые счастья времена»).
Нетрудно заметить и то, что в обоих случаях указание на «текст-источник» носит сходный характер (точная цитата в первой строке катрена + сходство рифмы и строфики + близость эмоционального настроя). Это подчеркивает «симметричность» функций обеих групп цитат. В целом же значение стихотворения строится как сумма внутритекстовых смыслов и тех, которые возникают от последовательного соотнесения с ними содержания двух процитированных в тексте произведений.
Указанный способ создания полигенетичных образов господствует в основном в ранней лирике Блока. Однако в усложненном виде он может встречаться и в позднейших произведениях. Так, поэма «Ночная фиалка» (1906) строится на сложнейшем монтаже разнородных реминисценций22. Уже сам перечень культурных традиций, составляющих основу «чужих слов» поэмы: лексика и фразеология немецкого и русского романтизма, ирония Гейне, автоцитаты из «первого тома» лирики поэта, Евангелие и апостольские послания — свидетельствует об установке на совмещение несовместимого, местами создающей иронический эффект, местами же рисующей картины сложного, не укладывающегося в привычные схемы мира. Например, лирический финал поэмы соединяет образ «лилового цветка» (вариация знаменитого «голубого цветка» Новалиса — символа романтического идеала), мотив прихода кораблей, имеющий очень сложный поэтический генезис; рассмотренный выше цитатный образ Нечаянной Радости и реминисценцию из Евангелия:
-
Что нечаянно Радость придет
И пребудет она совершенной (II, 34) —
(ср.: «…радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» — Ин 15:11).
2. Эффект полигенетичности создается за счет отбора образов, восходящих одновременно ко многим источникам, — инвариантов нескольких текстов. Этот способ можно назвать семантическим. Так, статья «Безвременье» (1906) содержит дважды повторенный эпизод — картину всадника, заблудившегося ночью на болоте: «Это — бесцельное стремление всадника на усталом коне, заблудившегося ночью среди болот. Баюкает мерная поступь коня, и конь свершает круги…» и т. д. (V, 75). Двойной повтор, причем второй раз — в самом конце статьи, сигнализирует нам о том, что перед нами важный для общей композиции статьи, вероятнее всего, символический образ. Однако на основе только внутритекстового анализа смысл его понять фактически невозможно, так как перед нами не только самостоятельный образ, но и сумма знаков-отсылок к другим текстам, раскрывающим его подлинное значение. Такими текстами оказываются:
а) эссе ближайшего друга Блока этих лет, Евг. Иванова, «Всадник. Нечто о городе Петербурге», опубликованное в 1907 г. в альманахе «Белые ночи», но известное Блоку уже в 1904 г. в рукописи. Здесь мы встречаем образ заблудившегося Всадника, который «остановился <…> случайно в густом неведомом лесу, средь мшистых топких берегов». Этот Всадник — один из двух персонажей повествования — прямо назван Медным и введен характерно-хрестоматийной цитатой из «Медного всадника» — «мшистые топкие берега»;
б) поскольку Всадник, заблудившийся на болоте, оказывается Медным всадником, выясняется и его основной генезис — поэма Пушкина, и весь комплекс идей, связанный с «петербургской» и «петровской» темой;
в) но сцена: Медный всадник на болоте — имеет и иной источник. Так, в «Подростке» Достоевского читаем: «А что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город, подымется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?»23
Мы не останавливаемся здесь на проблематике всех этих «чужих текстов», сформировавших в своей совокупности значение образа Всадника в «Безвременье». Совершенно очевидно, однако, что мистический Всадник Евг. Иванова отнюдь не тождествен ни историзму образов «Медного всадника», ни социальному эсхатологизму процитированного отрывка из «Подростка» Столь же очевидно, что для понимания блоковского образа Всадника, кружащего по болоту, одинаково важны все названные (и некоторые другие: например, образ заблудившегося Всадника из «Страшной мести») источники и что важность эта подчеркнута в плане выражения текстуальными отсылками ко всем данным текстам одновременно. Такого рода полигенетизм — типичное явление поэтики зрелого Блока.
Но, разумеется, особенно часто будут встречаться различные комбинации обоих названных способов создания эффекта полигенетичности. Так, знаменитое вступление к первой главе «Возмездия» начинается образом «железного века», идущим от античной культуры и актуальным, в частности, для весьма широкого круга русских поэтических текстов (Пушкин, Баратынский, Вяземский и др.). Так же восходит к нескольким источникам одновременно и образ «девятнадцатого века» (ср.: Киреевский, Гоголь, Вяземский и другие — вплоть до Д. С. Мережковского). В дальнейшем же в характеристиках «века» «свое слово» будет перемежаться с многочисленными реминисценциями из Пушкина, Гоголя и других, соединенными иным — «монтажным» — способом.
С точки зрения соотношения источников, полигенетичные цитаты могут иметь несколько типовых «конструкций»:
1. Цитата восходит к нескольким не связанным друг с другом текстам, возникая как их инвариант.
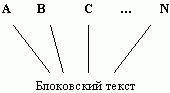
Сходство «текстов-источников» друг с другом окажется в этом случае типологическим (В. М. Жирмунский); но возможен и случай, когда общность «текстов-источников» будет чисто «омонимической» (случайной) и вообще возникнет в момент восприятия их Блоком, как факт его поэтического сознания. Такого рода цитата не только отсылает к традиции, но и сама активно формирует концепцию культурных связей.
Таков, к примеру, образ Человека в статье «О лирике» (1907): «Среди горных кряжей, где “торжественный закат” смешал синеву теней, багрецы вечернего солнца и золото умирающего дня <…> залег Человек, заломивший руки, познавший сладострастие тоски, обладатель всего богатства мира, но — нищий, ничем не прикрытый, не ведающий, где приклонить голову. Этот Человек — падший ангел — Демон» (V, 131). В приведенном отрывке содержатся прямые цитаты (как в узком, так и в широком значении слова), по крайней мере, из двух не связанных друг с другом источников. Это, во-первых, «Демон» Лермонтова. На поэму указывают: — наименование персонажа («падший ангел — Демон»);
— слегка перефразированная цитата из поэмы Лермонтова, заключенная в кавычки: «В час торжественный заката» («Демон», гл. XIV) → «торжественный закат»;
— в той же статье, несколькими строками ниже, — слова о том, что об этом герое Лермонтов создал «проклятую песенную легенду» (V, 131)24.
Но образ имеет и иной источник — Евангелие. Отсылкой к нему служат:
— определение героя как «не ведающего, где приклонить голову» — цитата из Евангелия от Матфея (8:20)25;
— определение героя как нищего — осколок многочисленных евангельских образов «нищих духом» (ср., например, Евангелие от Луки — 6:20 и др.), а также образа Христа, который «будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2 Кор 8:9 и др.);
— наименование героя как Человека, всегда связанное для позднего Блока и с образом Христа («Сын человеческий» — III, 246; ср.: Мф 8:20; «Раздался голос: “Ессе homo!”» — III, 30; ср.: Ин 19:5; источник указан в комментарии В. Н. Орлова; ср.: «Я — Человек» — III, 46 и др.).
Возможен и весьма вероятен (однако мысль эта должна быть подтверждена анализом всей лирики «третьего тома») и еще один источник — демократическая традиция русского реализма XIX в. с ее апологией Человека и, в частности, творчество раннего Горького (ср., например, написание слова «Человек» с прописной буквы, хотя оно может быть связано и с образом Христа).
Итак, перед нами цитата, точное понимание которой ведет нас к двум (или более) самостоятельным, но сложно связанным в сознании поэта источникам. Еще раз подчеркиваем активность такого цитирования: оно устанавливает свое понимание культуры (например, снимая оппозицию и устанавливая тождество: «Христос — Демон»).
2. Цитата восходит к нескольким текстам, среди которых может быть, в свою очередь, выделен их источник (источники) и текст (тексты) — посредник между ними и блоковским произведением. Иначе говоря, здесь Блок выделяет некую линию генетически связанных образов, то есть утверждает какую-то из уже известных (или не вызывающих сомнения своей очевидностью) линий культурной преемственности:
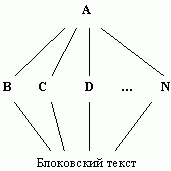
Так, в стихотворении «Полюби эту вечность болот…» строки:
-
Этот злак, что сгорел, — не умрет,
Этот куст — без нетления — тощ (II, 17) —
сильно перефразированный в плане выражения, но довольно точный по смыслу пересказ евангельской притчи: «…если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин 12:24). Притча эта, не раз привлекавшая внимание русских писателей XIX в., стала, в частности, эпиграфом к «Братьям Карамазовым». Блок, в период написания цикла «Пузыри земли» постоянно находившийся в русле воздействий Достоевского, по всей вероятности, имел в виду и этот «текст-посредник».
3. Можно было бы назвать и многочисленные типы соотношения источников, в которых два указанных основных принципа будут разнообразно варьироваться. Ограничимся лишь одним сокращенным примером-схемой:
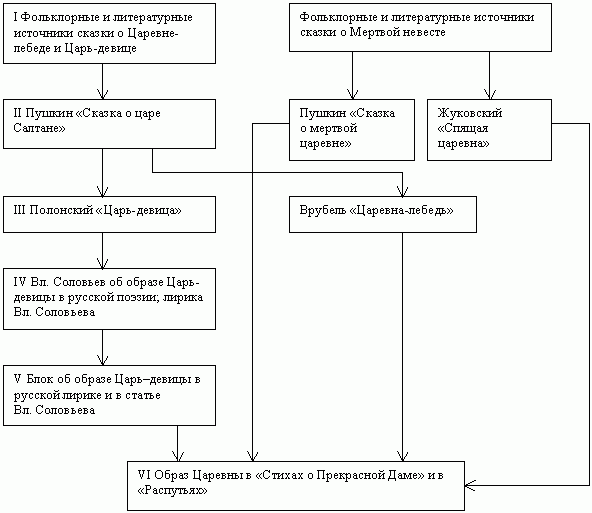
Из приведенной схемы ясно и то, что термин «текст-посредник» весьма условен и по сути такой текст может не выполнять функции «посредничества». Хотя, в строго генетичном смысле, тексты этого типа «происходят» от «текста-источника» и сами являются «текстами-источниками» по отношению к блоковскому, однако сам Блок использует все эти разные по происхождению образы как функционально равнозначные. Как уже отмечалось, применительно ко всем цитатам в произведении можно говорить о смысловой «игре», возникающей между разными элементами выделенной группы реминисценций и между цитатами и различными типами нецитат. Однако применительно к цитатам полигенетичным справедливо отметить еще и «игру» — смысловое напряжение, возникающее между всеми текстами-источниками, вовлеченными в процесс смыслообразования. Эта «игра» может состоять в нахождении общего у весьма далеких произведений (ср. сочетание цитат из «Гамлета» и из предсмертной элегии Ленского в первом варианте стихотворения «Есть в дикой роще, у оврага…» — I, 574), может приводить к «расподоблению сходного», к снятию весьма существенных оппозиций и т. д. и т. п.
В заключение — несколько слов об изменении функций цитат в связи с общей эволюцией поэта.
1. В период ученичества (1898–1899) цитаты в лирике Блока обильны, однако не несут еще отчетливой эстетической функции. Их использование, так сказать, «натуралистично» — связано с тем, что начинающий поэт, как это часто бывает, видит мир во многом сквозь призму чужих образов и слов, не отделяя их от собственных. Цитирование возникает не намеренно — возможно, иногда даже помимо воли автора, желавшего бы сказать обо всем по-своему. В тексте такие цитаты графически, как правило, не выделяются. Их «натуралистическая» природа проявляется в том, что значение заимствованных образов в блоковском контексте совпадает со значением «своих слов», не создавая смысловой «игры». Иногда возникает «игра» помимо авторской установки текст получает совершенно не «запланированный» каламбурный оттенок. Такова, к примеру, в стихотворении «Экклесиаст» строка: «Столпились в кучу люди, звери»; совпадением со стихом из «Бородино»: «Смешались в кучу кони, люди» — она создает комический эффект, переводя трагическую эсхатологию на язык батальных описаний. Все это позволяет говорить о том, что цитаты с точки зрения генезиса функционально здесь цитатами могут и не являться. Но уже и в период «Ante lucem» появляются и цитаты художественно значимые (чаще всего — из Жуковского, Пушкина, Полонского, Шекспира). Их отличительная черта в плане выражения — выделенность кавычками или курсивом (или указание на «текст-источник» в эпиграфе), основная функция — указание на ту культурную линию, в ключе которой хотел бы быть воспринятым молодой поэт. Установка на связь с традицией роднит эту поэзию с позднейшей лирикой Блока. По типу цитаты в «Ante lucem», как правило, точные, отсылающие к одному источнику или (тоже «моногенетичные») знаки-имена (обычно — наименования персонажей: Офелия, Мэри) и предикаты (ситуация: смерть возлюбленной). Не очень частые полигенетичные цитаты строятся способом «монтажа».
2. Период «Стихов о Прекрасной Даме» и отчасти «Распутий» (1900–1903) характеризуется резким сокращением количества цитат при столь же резком усложнении их функций. «Натуралистическая» цитация почти исчезает. Цитаты26, как правило, выполняют функции:
— отсылки к традиции (обычно к линии «Полонский — Фет — Соловьев», воспринимаемой как внутренне цельная);
— переосмысления традиции в духе «мистического монизма» молодого Блока. Примером может служить уже упоминавшийся «миф» о спящей царевне, весьма далекий от содержания пушкинской сказки, или мистически переосмысленный образ «рыцаря бедного» в стихотворении «А. М. Добролюбов». Подобное переосмысление не было обычным результатом включения цитатного «чужого слова» в новый контекст: переосмысления носили для этого слишком явный (можно даже сказать — демонстративный) характер. Ключом к пониманию этой функции «чужих слов» служат теоретические построения символистов (прежде всего — «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» Д. С. Мережковского, 1892) и их отражения в ранней неоконченной статье Ал. Блока о русской поэзии (декабрь 1901-го — январь 1902 г., см.: VII, 21–37). Одно из важнейших положений символизма — соловьевская мечта о «синтезе» духовного и материального начал — превращается у Д. С. Мережковского в мысль обо всем досимволистском искусстве как искусстве предсимволистском, неосознанно символистском. Все образы великих писателей прошлого — стихийные символы. Культурная роль символизма, по Мережковскому, состоит, в частности, в «синтезировании» методов и образов прошлых культур и «сознательном» выявлении их символической природы.
Такая постановка вопроса, с одной стороны, выдвигала «культурную тему» как основную для символизма (развивающуюся часто в ущерб темам и образам, навеянным живой жизнью). С другой стороны, очевидно, что подгонка всех методов и образов прошлых культур под мистический стандарт была неразрывно связана с их резким переосмыслением, подчас — с искажением их основного исторического смысла. Блок, как известно, в целом чуждался влияний отвлеченных теоретических схем. Однако именно в период «Стихов о Прекрасной Даме» и «Распутий» он часто попадал под воздействие идей Д. С. Мережковского.
К 1900–1903 гг. относится усложнение типов цитат, появление цитат разных уровней. Возрастает количество полигенетичных цитат. Это и понятно: образы, восходящие к разным, подчас совершенно не связанным источникам, «проясняют» в тексте поэта-символиста свою якобы единую (мистико-символическую) природу (ср. мысли Мережковского о «стихийности» прежних и «сознательности» современных художников-мистиков).
3. Период 1904–1907 гг., от «Распутий» до «Снежной маски», Блоком был определен как «антитеза» его творчества. Теперь основной пафос его произведений — полемический. Это отражается и в использовании цитат, число которых снова резко возрастает. К прежним функциям прибавляется новая — полемическая, связанная с созданием эффекта иронии при столкновении «высоких» образов-цитат с бытовым или иным «сниженным» контекстным окружением. Равным образом эффект иронии создается и сталкиванием цитат из источников, стилистически и мировоззренчески противопоставляемых (ср. упомянутые выше отсылки к Гейне и к Евангелию в «Ночной фиалке»). Отсюда — появление новых возможностей монтажа цитат.
Само понятие цитаты также резко расширяется. В частности, начинают широко использоваться разного рода отсылки к прозаическим текстам (чаще всего — к Достоевскому), что позволяет решить вопрос о «переводе» прозы на язык лирики, вводя образы — «осколки» цитат: отсылки к сюжету (ср. детали эпизода возвращения домой «обесчещенной» Марии в «Идиоте» и сцену утреннего пробуждения героини «Легенды»), к портретным и иным характеристикам (ср. описание внешности Настасьи Филипповны, взятое эпиграфом к «Незнакомке», и фрагменты этого описания в тексте пьесы) и т. д. Возрастает полигенетичность образов (ср. мотив кораблей, в одних текстах имеющий «отсылки» к Ибсену, в других — к вступлению к «Медному всаднику», в третьих — к сюжету об аргонавтах и его отражениям у А. Белого и т. п., а в целом для творчества 1903–1905 гг. складывающийся из совокупности внутритекстовых значений образа и всех этих реминисценций). Полигенетичность постепенно становится все более художественно осознанным свойством «цитатного слова». Так, переводя стихотворение Байрона «Отрывок», упоминающее Мэри, Блок в 1908 г. в сборнике «Земля в снегу» вводит его в состав цикла «Мэри», навеянного образом пушкинской героини. На полигенетичности имени героини строится «игра» значений в «Незнакомке» (Мэри — Мари — евангельская Мария, в образе которой для Блока также нарочито неотделимы черты Богородицы и Магдалины).
Следует оговориться, что и отношение к цитате, возникшее в предыдущие периоды, также во многом сохраняет свою актуальность, что вообще оказывается связанным с существеннейшей чертой эволюции Блока: найденное на предыдущих этапах развития никогда полностью не отбрасывается, а лишь временно отступает на задний план или — чаще всего — переосмысляется, приобретает новые художественные функции.
4. Период обдумывания и создания статей о народе и интеллигенции (вторая половина 1907-го – начало 1909 г.) — сравнительно короткий, но очень существенный этап развития поэта. Намечающиеся в это время резкие сдвиги общеэстетических взглядов и художественной структуры отразились и на отношении к цитате. Блок переживает интенсивное воздействие идей русского демократического искусства XIX в., особенно в его толстовском варианте, связанном с отрицанием социального, технического, культурного и т. п. усложнения жизни как буржуазного и ложного по своей природе. Интерес к идеям «разрушения эстетики» и отказ от культуры как придатка ложной цивилизации определяет и отказ от принципа цитатности, утверждающего те или иные линии культурной связи. Разумеется, на самом деле такой отказ был элементом художественной структуры, то есть вовсе не предполагал действительного разрыва со всей культурной традицией, равно как и действительного отказа от цитации: темы типа «Толстой и Руссо» не менее правомерны, чем изучение роли традиции в творчестве Достоевского или Блока, а цитат (например, из Евангелия) в «Воскресении» не меньше, чем в «Братьях Карамазовых». Речь идет об ином — о том, что преемственность истолковывается Л. Толстым не как связь культур, а как совпадение единственно возможных «естественных» (истинных) взглядов на вещи. Соответственно и цитата могла приводиться лишь как свидетельство об истине, которой придерживался и автор, то есть как текст, полностью сливающийся со «своим словом», или, напротив, как пример подлежащей разоблачению ошибки, то есть как прямой антипод «своего слова». В обоих этих случаях исключалась сложная взаимосвязь текста и традиции и, соответственно, сложная «игра» «своего» и «чужого слова».
У Блока этот «толстовский» подход к цитации даже в рассматриваемые годы не стал определяющим. Однако появление его заметно отразилось на структуре блоковских произведений — от цикла «Вольные мысли» до публицистики. Выразились эти новые тенденции в следующем:
а) Реальное сокращение количества цитат и вообще всякого рода «культурных символов». Значение этого шага не следует преувеличивать (в частности, Д. Д. Благой отметил цитатный — от Ап. Григорьева — характер самого заглавия «Вольные мысли», а Малкина, К. Чуковский и другие исследователи — зависимость белых пятистопных ямбов и ряда образов этого цикла от пушкинских). И все же по сравнению, например, со «Стихами о Прекрасной Даме» или же с «Итальянскими стихами», «Ямбами» или «Кармен» цикл «Вольные мысли» не только выглядит в интересующем нас плане более «оголенным», но и действительно включает меньшее число цитат и иных отсылок к другим текстам.
б) Ценностное «снижение» цитат (и цитаты как таковой) при столкновении их с нецитатами, играющими теперь роль «самой истины» или «самой жизни». Реалия в сознании Блока по-прежнему играет роль, родственную «чужому слову», и, по крайней мере, в стилевом, ценностном и т. д. отношениях никогда полностью не сливается со «своим словом» лирических монологов. Сходство это по-прежнему поддерживается тем, что все факты действительности мыслятся как имеющие значение — но не только эмпирическое или вырастающее на его основе обобщенно-логическое. Жизненные явления для Блока и теперь отраженные и символически-замещающие знаки «духа эпохи». Однако это сходство с цитатами — символами-заместителями культурных явлений — теперь становится основой для противопоставления. «Тексты жизни» объявляются более ценными, чем произведения искусства, и, соответственно, реалия оказывается представителем мира истинного, живого и ценного, а цитата — знаком мира комнатно-иллюзорного, внутренне мертвого. Такая оценка «цитатного слова» отличает творчество 1907—1908 гг. от произведений предшествующего периода.
В отличие от универсально-иронического эффекта, возникавшего в лирике 1904–1906 гг. от соположения цитат с другими цитатами или с нецитатами, теперь не происходит комического обесценивания обоих сталкиваемых отрезков текста: «понижение» ценности на одном полюсе оппозиции сопровождается возрастанием ее на другом:
-
…я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные
Речи о земле и небе (II, 288–289).
…она захотела,
Чтобы я читал ей вслух «Макбета»
Едва дойдя до пузырей земли,
О которых я не могу говорить без волненья,
Я заметил, что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.
Оказалось, что большой пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей (II, 290).
Если в первом отрывке декларативно утверждается превосходство жизни над «речами» (преимущественно над искусством — «рифмованными речами»), то во втором ситуация строится именно как столкновение образа-цитаты («пузыри земли») и образа — биографической реалии (эпизод из жизни Блока, зафиксированный, к примеру, в воспоминаниях Н. Н. Волоховой «Земля в снегу»). При этом утверждается правда и поэтичность именно образов, «взятых из жизни»27.
в) Использование цитат в упрощенной функции «правдивого слова» (сливающегося с авторской речью) или «лживого слова» (полного антипода авторскому, требующего опровержения). Чаще всего такого рода цитирование встречается в публицистике Блока 1907–1908 гг. Однако и в лирике подобные случаи нередки; ср., например, такой нарочито упрощенный, «наивный» и вместе с тем резко оцененный автором пересказ принципов «этики жертвы»:
-
Ведь только люди говорят,
Что надо ждать и быть покорным… (II, 286)
Слову «говорят» противопоставлена истина, выраженная, по-видимому, «ложной цитатой» — стилизацией народной песни или мещанского романса, заключенной, однако, в кавычки, подобно цитате.
-
А здесь — какая-то свирель
Поет надрывно, жалко, тонко:
«Качай чужую колыбель,
Ласкай немилого ребенка» (II, 286)28.
Обе «чужие» точки зрения (требование покорности — тоска и нарастающий взрыв) четко противопоставлены. Столь же отчетливо выражено и авторское отношение к обеим.
Новое отношение к принципам художественной цитации было частью нового мироощущения, возникшего как попытка преодоления символистской эстетики. Искусство «модернизма» начинает Блоком рассматриваться как насквозь «цитатное» — книжное, как «слова», удаленные от высшей ценности — живой жизни.
5. В творчестве Блока, начиная примерно с 1909 г., все отмеченные выше типы и функции цитат, объединяясь, приобретают новое качество29, а цитация впервые становится одним из самых существенных художественных формантов, во многом определяющих специфику его поздней лирики.
Роль цитации в этот период связана с оформлением блоковского историзма и диалектического ощущения «нераздельности и неслиянности» различных явлений жизни. Полигенетичная (по преимуществу) цитата оказывается функционально родственной символу именно своей многозначностью — способностью быть осмысленной в разных семантических контекстах. Только у символа эта способность формируется в данном или родственных текстах, и поэтому символ не противостоит «своему» слову (даже если ряд его значений сформирован, к примеру, всей традицией символистской поэзии); многозначность же цитаты всегда включает соотношение значений «чужих» и «своего» слова.
Отношение к культурному наследию «веков» в этот период у Блока сложно и неоднозначно. Оно включает, с одной стороны, сформулировавшееся в 1907–1908 гг. демократически-метафизическое отрицание буржуазной цивилизации (называемой Блоком в эти годы еще «культурой»). Отсюда и возможность полного вообще отрицания истории, «прогресса», распространяющаяся и на явления культуры (ср. «День проходил, как всегда…» и др.). С другой стороны, поэту в конце 1900-х – 1910-х гг. свойственно и представление о каких-то огромных пластах человеческой культуры (например, об искусстве) как о высочайших исторических достижениях человечества. Культура, искусство в «синтезе» их самых разнообразных выявлений входят для Блока в понятие той социальной «нормы», которая связывается с идеалом «грядущего», «нового века»:
-
Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет (III, 99)30.
Такое двойственное («ненавидящая любовь», как скажет Блок после Октября) отношение к культуре проявляется одновременно в самых разных аспектах. Иногда оно приводит к противопоставлению разных пластов внутри культуры (например, «духовная культура» ↔ «материальная культура»; эпоха Возрождения ↔ «век девятнадцатый, железный»; «пушкинская культура» ↔ «позитивизм» и т. д. и т. п.). Но столь же часто можно видеть, как чувство диалектической «любви-ненависти» распространяется у Блока на одно и то же явление духовной жизни человечества.
Преодолевая прямолинейно-«толстовское» отрицание культуры, Блок, однако, не возвращается на позиции раннего творчества. Само понимание культуры у него качественно иное, чем, например, у В. Брюсова, Вяч. Иванова или Д. С. Мережковского: упомянем хотя бы о роли фольклора (особенно романса и частушки) в эстетике позднего Блока. «Археологичности» брюсовского понимания культуры, кабинетной «ученой поэзии» Вяч. Иванова Блок противопоставляет творчество, широко синтезирующее самые разнообразные жизненные и культурные впечатления.
Это отношение к наследию отражается и в подходе к произведениям искусства и к цитатам — их репрезентантам в блоковском тексте. Цитата (обычно полигенетичная) несет в себе одновременно и запас «ядов культуры», и высокий пафос Vita nuova. По-разному проявляясь в разных цитатах или в разных источниках одной цитаты, эти два начала сложно соотносятся, то противопоставляясь, то сливаясь, и составляют один из планов сложнейшей семантической ткани, образующей лирику позднего Блока. Сама эта сложность также становится предметом эмоциональной оценки.
Указанная антиномия дополняется другой, не менее существенной. С одной стороны, высокая оценка культуры, истории приводит к тому, что образы-реалии начинают противопоставляться образам искусства (в том числе и цитатам) как менее «высокое» и ценное (ср. в особенности «Итальянские стихи»):
-
Лишь в легком челноке искусства
От скуки жизни уплывешь (III, 108).
Но вместе с тем именно в конце 1900-х – 1910-х гг. в поэтическом сознании Блока все более повышается ценность понятия «реальность» и образов, навеянных действительностью. Это создает новое, лишенное прежней прямолинейности соотношение слова-реалии и слова-цитаты. В разных текстах (а порой в одном и том же) они сопоставляются, раскрывая сложное сходство / различие и оцениваясь диалектически неоднозначно. Таково, например, сочетание автобиографических реалий и оценок, данных через культурные параллели, в поэме «Возмездие». Иногда литературная параллель воспринимается как проясняющая главное в героях (ср. важность сопоставления Отца с Байроном, Онегиным, Чацким, «демоном» и Достоевским) и даже — более важное и глубинное, чем реальные факты их биографии (ср. III, 338 и III, 339–340). Иногда же реальные события оцениваются как нечто гораздо более живое и полнокровное, чем любая «литературность», а сама «цитатная» культура (синоним культуры дворянско-либеральной) изображается иронически и «кавычки» приравниваются к «испугу» перед жизнью, историей (ср.: III, 314–315). И наконец, в ряде сцен (особенно в прологе и в конце третьей главы) реалии и цитаты функционально вообще не противопоставляются. Сложно переплетаясь, они создают образ многоликой жизни, включающей и «музыку реальности», и голос культуры.
Наконец, резко усложняется и роль автоцитат. Господствовавший в лирике «второго тома» довольно устойчивый прием иронического соположения мистических поэтизмов раннего творчества и «сниженной» лексики сменяется гораздо более сложным отношением к периодам «тезы» и «антитезы».
Так возникает основание для всех многообразных семантических связей, представленных как в самих цитатах, так и в их отношениях к нецитатам31. Основные формы их были прослежены выше.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л., 1929; Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 242–273.
2 Волошинов В. Н. Ук. соч. С. 136–137.
3 Из сказанного видно, что отличие цитаты от других разновидностей «чужого слова» (как и вообще от «нецитаты») не столько генетическое, сколько функциональное. Можно привести множество примеров частей текста, имитирующих цитаты (ср. ложные цитаты в эпиграфах к «Капитанской дочке»), равно как и случаи цитат, нарочито слитых с речью автора или персонажей.
4 См. об этом: Шувалов С. Блок и Лермонтов // О Блоке. М., 1929. С. 116–119.
5 В этом плане очень показательна критика «толстовства» в более поздних (конец 1900-х – 1910-е гг.) работах Вяч. Иванова. Совпадая с Толстым в отрицательном отношении к буржуазному прогрессу, Вяч. Иванов не признает его нигилистического отношения к культуре, противопоставляя ему «пафос сложности» в творчестве Достоевского.
6 Реалия эта повторена в позднем (1909) стихотворении «Не спят, не помнят, не торгуют…», и смысл ее раскрыт в комментариях В. Н. Орлова (см. III, 523).
7 Сказанное выявляет связь между цитатностью и таким кардинальным свойство] языка символизма, как его «эзотеричность». Эффект «темноты», непонятности, «тайны высказывания создается не только соответствующим подбором мистико-философской лексики, но и тем, что в текст включаются многочисленные отсылки к разнообразным другим текстам, известным только «посвященным». Остальные участники коммуникации должны воспринимать эти намеки как цитаты из «тайного» источника.
8 Генезис образов раскрывает и смысл стихотворения, тем более важный, что этот первый блоковский текст, где «я» и «толпа» не выступают как романтические антонимы. Тема противостояния «поэта» и «толпы» сменяется образом певца-пророка, водите в Землю Обетованную. Так образ пророка оказывается для Блока (как и для многих других художников XIX в.) путем к пониманию общественной функции искусства.
9 Многозначность символа связана и с совсем другим его свойством. Презумпция многозначности образа в символизме неотделима от презумпции его иконичности, изобразительности (ср.: Флоренский П. Symbolarium // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 284. 1971).
10 Резкое различие могло бы быть создано двумя путями: 1) введением ряда повторяющихся образов архаической окраски (на фоне иных стилевых рядов лексики) или 2) созданием резко ощутимой стилевой «пропасти» между «огнистым столпом» и остальной лексикой. Ничего этого в рассматриваемом стихотворении (как и в случае с «шубкой с мехом») нет. Однако иконичность и цитатность образа-символа не противоречат друг другу: первая указывает на способ соотнесенности с лежащей вне данного контекста реальностью, вторая — на текстовую (для символиста) природу этой последней. Как увидим ниже, свойства иконичности и цитатности соединены не только в эстетике символизма: соотношение цитаты и текста-источника действительно всегда включает элементы изобразительности.
11 Из сказанного ясно еще одно отличие цитат (в нашем смысле) от иных видов «чужого слова». Последние, чтобы не утратить свою основную функцию, могут заменяться (например, в процессе порождения текста) лишь словами (грамматическими формами, конструкциями), столь же стилистически, культурно, индивидуально-психологически и т. п. специфическими. Перефразировки цитат, равно как и «свернутые» указатели «чужого текста», могут претерпевать любые стилистические и прочие изменения, полностью сливаясь — в плане общеязыкового выражения — со «своим словом», с авторской речью. Иными словами, «чужая речь» — отсылка к стилистическому контексту, а цитаты — к разным уровням контекста культурного. «Чужая речь» поэтому дается кусками того типа речи, которую она представляет, цитата же (в нашем смысле) может быть знаком другого текста, то есть любым видом его замещения. В этом проявляется ее отнесенность не к естественному языку, а к «вторичному» языку культуры.
12 Ср., например, обозначение героини «Снежной маски» как «закованной в снега» (II, 214), а героя дантовского inferno — как «наполовину закованного в лед» (Ад, XXXIV, 29).
13 Ср.: Мандельштам О. О поэзии. Сб. статей. Л., 1928. С. 58.
14 Ср.: Чуковский К. Современники: Портреты и этюды. М., 1962. С. 440.
15 Ассоциация эта была актуальной и для Блока, и для других символистов (например, Вяч. Иванова) — и не только для них: Маяковскому тоже надо было «ямбом подсюсюкнуть» Пушкину, «чтоб быть понятней», — и ямбом четырехстопным.
16 Функцию сигналов цитирования, впрочем, могут выполнять и элементы лексического уровня (ср., например, эпиграфы, названия типа: «Из…» или указания: «Как Сади некогда сказал», играющие, разумеется, не только эту роль).
17 «Богоматерь Нечаянная Радость» — икона конца XVI – начала XVII в. (см.: Ростовский Д. «Руно орошенное»). Имелась, в частности, в Благовещенском соборе в Москве (ср. запись о посещении Блоком этого собора летом 1902 г.: Блок А. Записные книжки. Л., 1930. С. 39–40).
18 Равным образом можно предположить, что будут уловлены и созданные блоковскими текстами окказиональные значения цитатных образов. Однако, как явствует из приведенных нами выше примеров, текст, включающий в себя цитаты, прежде всего опирается на их уже созданные в тексте-источнике значения и лишь на основе их создает новые.
19 Иронический эффект строк из «Про это» Маяковского:
-
…Ничего —
я боком
Нечаянная радость-с, как сказано у Блока —
(Маяковский В. Полн. собр. соч. В 13 т. М., 1957. Т. 4. С. 160) — основан именно на таком отождествлении.
20 См. в наст. изд.: «Об одном способе образования новых значений в художественном тексте (Ироническое и поэтическое в стихотворении Ал. Блока «Незнакомка»)».
21 Жирмунский В. Драма Александра Блока «Роза и Крест». Л., 1964. С. 77, 78.
22 Это тем более интересно, что в основе сюжета — увиденный Блоком сон (см. II, 385—386). Однако «реалии», связанные с передачей сна, теперь уже не играют той особой роли, которая была присуща реалиям «Стихов о Прекрасной Даме»: они либо подключаются к языковой стихии «чужих слов», либо сливаются с авторской речью.
23 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 116.
24 Черты лермонтовского Демона здесь перемежаются с описанием картины Врубеля.
25 Цитата эта полностью повторена в заключительных строках стихотворения «Ты отошла, и я в пустыне…» (III, 246); источник указан в комментарии В. Н. Орлова (III, 585).
26 О том, что для этого периода характерно сближение функций цитат и реалий, уже говорилось. Здесь речь идет о цитатах не в символистском смысле.
27 Здесь мы опять сталкиваемся с тем, что противопоставление «культуры» и «жизни» в искусстве всегда носит условный характер; так, во втором стихотворении мысль о большей ценности реального мира выражена… литературной параллелью с дантовским сюжетом:
-
Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби
И что прошли времена Паоло и Франчески (II, 291).
Но сюжет этот осмысляется здесь не как литературный, а как то, что «было на самом деле», то есть как нецитата.
28 Возможно, впрочем, что перед нами подлинная цитата из неизвестной нам песни или романса.
29 Общее повышение роли цитаты вызывает к жизни и новые ее виды. Так, в поэтике «третьего тома» важную роль играют образы, навеянные произведениями других искусств, прежде всего живописи (более всего «Итальянские стихи») и музыки («Кармен»; ср., также общую ориентацию лирики Блока 1910-х гг. на интонацию и мелодику романса, отмеченную Ю. Тыняновым).
30 Ср. в приведенной цитате характерную двуплановость образа Новой жизни, отраженную и в графике (Новая жизнь — с прописной буквы, но без кавычек, что одновременно и отсылает к произведению Данте и позволяет истолковывать Vita nuova как символ грядущего).
31 Разумеется, прослеженные изменения в функциях цитации — лишь схема, отражающая господствующие тенденции в эволюции поэтики Блока. Следует учесть и то, что различие функций и использование разных типов цитат может быть вообще связано не с общей эволюцией поэта, а, например, с различием жанров (лирика — публицистика — письма и т. п.). Так, в публицистике вообще преобладает «цитата-истина», в письмах, особенно ранних, — цитата, задающая стилистико-семантический «ключ» общения, и т. д.
* Минц З. Г. Блок и русский символизм. Избранные труды: В 3 кн. СПб.: Искусство – СПб, 1999. Кн. 1: Поэтика Александра Блока. С. 362–388.
Ruthenia, 2006