| начальная | personalia | портфель | архив | ресурсы | о журнале |
Леонид Геллер
Печоринское либертинство
Прежде, чем начать, я хочу поблагодарить организаторов за приглашение. Они пошли на серьезный риск, побудив меня к вторжению не в свою область. Я вряд ли ясно представляю себе, какова концептуальная подоплека нашей встречи. Поэтому из соображений безопасности постараюсь занять место в предполагаемом теоретико-методологическом хвосте и предложу очень традиционный по фактуре и функции литературоведческий анализ. Притом, не будучи лермонтоведом и занимаясь XIX-м веком лишь по необходимости, я даже и в литературе забрел не в свой огород. Тема возникла на семинаре о “Герое нашего времени”, когда в собранных для него материалах обнаружились неожиданные пробелы. Может быть, подборка была неполной и то, что я хочу сказать, известно. Если это так, прошу заранее извинить. Моя дилетантская цель — бегло обсудить то, о чем я проговорился в названии доклада, а что по замыслу должно было составить его заключение: “печоринское либертинство”.
О Печорине-любовнике, несущем своим жертвам страдания и смерть, писали многие. Среди наиболее интересных — сравнительно недавняя работа Оге Хансена-Леве1. От нее и буду отталкиваться; и еще от статей лермонтовского тома Литературного наследия 50-летней давности — на мой взгляд, они сохраняют интерес и сегодня.
В большой статье, очень удачно озаглавленной “Печорин как женщина и лошадь”, Хансен-Леве подробно рассматривает борьбу за власть, борьбу полов — и гетеро- и гомоэротического плана, — в которую Печорин превращает любовь, вписываясь одновременно и в свою эпоху, и в мифический облик вечного совратителя-разрушителя-Дон Жуана-Демона.
Хансен-Леве подчеркивает, что Печорин обладает чертами вампиризма, садизма, каннибализма, которые в конце века будут составлять атрибуты femme fatale. Он пишет: “Печорин может жить только, когда другие умирают”, и определяет роман как “типический продукт романтической теории разрушения”, по которой “смерть есть романтический принцип жизни” (слова Новалиса).
Полностью соглашаясь с этим, я думаю, что роман реализует теорию смерти более радикально, чем это представлено в статье.
Печорин сам говорит о себе: “я понимаю Вампира”. Не могу удержаться, чтобы не заметить в скобках, как общепринятая транскрипция имени героя повести Полидори скрывает любопытную деталь: по-русски его пишут “лорд Ретвен”, но если присмотреться, то в английском написании Ruthwen явно проглядывает Ruthen, т. е. житель Рутении, русин. Самый первый литературный вампир оказывается по происхождению близким родственником русских! Я полагаю, что он обрел собрата в Печорине, и что слова последнего надо понимать символично, конечно, но более буквально, чем принято.
В “Бэле” вполне ясно проводится “вампирическая” ситуация: живя с Печориным, прекрасная черкешенка постепенно хиреет, бледнее, теряет силы, не покидает комнаты, тогда как Печорин пропадает целыми днями (он “страстно любил охоту”) и возвращается домой лишь на ночь. Не менее интересны и странны подробности в других частях романа. Печорин стремится завоевать любовь Мери, но “обольстить ее”, по его словам, он не хочет. Ему нужно только сорвать ее, как цветок, надышаться ароматом едва распустившейся души, и бросить. Тут он занимается, так сказать, душевным вампиризмом. Зато он чувствует сильное телесное влечение к Вере, проводит с ней ночь. Что сказать об этой пассии? Как-то умалчивается о том, что Вера — отмеченная родинкой, как колдунья, закутанная при встрече с Печориным в черную шаль — безнадежно больна, обречена, и она исчезает, не позволив себя догнать. В ней сочетаются все признаки призрака. Неожиданная страсть Печорина к ней получает несколько болезненный, если не патологический оттенок. A весь рассказ — готический уклон.
Литературоведческие разговоры о “Фаталисте” сосредотачиваются как правило на метафизических или общекультурных проблемах; эта повесть представляется единственной частью романа, в которой отсутствуют женщины и любовная интрига. Однако, если о любви в ней и не говорится прямо, то эротической темы она отнюдь не лишена. Женщина в станице есть:
Я жил у одного урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю. Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее.
Женщина ждет Печорина, как каждую ночь, готовая дать ему свою любовь (вряд ли речь идет о невинных ночных разговорах), но ночью, когда происходит действие, он предпочитает уйти от нее для того, чтобы играть со смертью — в образе пьяного казака.
Эта подробность — обманутое ожидание женщины, — данная мелким масштабом, позволяет крупно выделить в Печорине его большее влечение к смерти, чем к любви. Но ведь это и пристало вампиру. Вампир есть оживший мертвец, или живой, постоянно переживающий смерть.
Печорин явно связывает половое наслаждение с конной ездой и свою му-жественность с конем; не исключено, что смерть коня в концовке эпизода с княжной мери можно истолковать в свете кастрационного комплекса, который, согласно, Игорю Смирнову, характерен для романтизма.
Надеюсь, что более элементарное прочтение здесь тоже возможно: Печорин отождествляется с конем — он составляет с ним одно целое, мифического черкеса-кентавра — и переживает смерть коня как свою собственную.
Само имя героя, которое обычно (по инерции) прочитывается лишь как производное от реки Печоры и в сопоставлении с онегинским, имеет и другие смыслы, подробный анализ которых, как мне кажется еще не произведен; сделаю без претензии на строгость несколько замечаний.
Легко заметить анаграмму “черепа” в фамилии героя, написанной через “е” (как было принято, и как писали себя Федор Печерин, известный переводчик конца XVIII-го века, или современник Лермонтова Владимир Печерин, по странному стечению обстоятельств сочинивший в 1833 году поэму под названием “торжество смерти”, которая получила вскоре довольно скандальную известность).
Написание через “о” подчеркивает созвучие с “чортом” или “чорным”. Более интересно, что в фамилии всегда прочитывается и “печь”. Наряду с общеизвестной сексуальной семантикой печи, о которой забывать не надо, стоит упомянуть апокалипсическую символику печи из ранней лермонтовской пьесы “Menschen und Leidenschaften”. Приведу цитату, где природа представлена как адская печь, а люди, природой же обреченные на смерть, сравниваются с искрами: “Природа подобна печи, откуда вылетают искры. Когда дерево сожжено: печь гаснет. Так природа сокрушится, когда мера различных мук человеческих исполнится. Все исчезнет.” (248).
Добавлю сюда главное с моей нынешней точки зрения: “печору” как старую русскую форму “печеры”, т. е. славянской и современной “пещеры”.
О том, что Печорин — человек, пришедший из пещеры, из глубины земли — или с того света, говорит и еще одно обстоятельство. В “Княгине Лиговской” описан портрет мужчины, который Печорин называет портретом байроновского Лары — но он и сам отождествлен в тексте с этим портретом. О Ларе же Байрон говорит так:
He stood a stranger in this breathing world, Он был
чужим в живодышащем мире,
An erring spirit from another hurl'd (…) Бродячий дух, сюда закинут
из иного…
Неслучайно еще до середины книги мы узнаем о смерти героя, которую сам он давно ожидал и по-видимому многократно пережил; такова одна из особенной вампира — умирать и постоянно возрождаться к подобию жизни.
Опять в скобках: издатель-рассказчик сам ведет себя как вампир: известие о смерти Печорина его “очень обрадовало, оно давало право печатать эти записки”: иронично-скрытая метафора писательства, превращающего все в бумажные призраки.
В романе так много говорится о смерти, она так вездесуща, так подробно и длинно описывается (удивителен в “Бэле” развернутый в ущерб темпу действия рассказ о медленном умирании героини), именно потому что взгляд Печорина — взгляд мертвеца или человека, который на дружеской ноге со смертью. И для всех, кто говорит о Печорине в романе, да и для читателя, кажется, на нем различима печать смерти, подобная той, которую он заметил в лице Вулича. Если так, то и его странное иногда поведение, его эмоциональный холод — подчеркнутый в эпизоде встречи с Максимом Максимычем — оказывается не маской, не наигранным пренебрежением, это истинное равнодушие мертвого к живым.
Одержимость смертью характерна и для Лермонтова вообще; здесь не место об этом писать. Скажу лишь, что он как бы принимает всерьез слова Волина из “Menschen und Leidenschaften”: “что мне жизнь теперь, когда в ней все отравлено… что смерть! Переход из одной комнаты в другую, подобную ей” (247).
Это почти хлебниковское сравнение2 реализовано в топографии романа, где поразительно и неотвратимо суживается пространство: смерть встречает героев в открытой степи (“Бэла”), на море (“Тамань”), на узкой площадке среди гор (“Княжна Мери”), в комнате, где толпятся игроки, и, наконец, в хате с заколоченными дверьми и ставнями (“Фаталист”).
Тут, наконец, я подхожу к основной моей теме: дело в том, что эти квази-некрофильские мотивы напоминают фантастику Гофмана и, что более интересно для данных построений, французского подражателя Гофмана Теофиля Готье, особенно его написанный в 1834 году рассказ “Влюбленная покойница” (“La Morte amoureuse”).
Надо ли напоминать, что у Лермонтова есть стихотворение “Любовь мертвеца”, и во многих стихах его, ранних и поздних, в этот мир возвращаются духи умерших, для того, чтобы продолжать любить (“Письмо”, “Гость”). Не буду долго задерживаться на сравнении романа Лермонтова с рассказом Готье, герой которого, набожный монах, совращенный прекрасной, но давно умершей Кларимондой, днем продолжает вести монастырскую жизнь, а ночью входит в роль аристократа-развратника, причем для каждого из двух его воплощений другая жизнь представляется сном.
Рассказ Готье дает новый поворот теме вампира, ставшей чрезвычайно модной во Франции, особенно в театральной мелодраме начала 1830-х гг. При этом Кларимонда — одно из первых женских воплощений вампира, задолго до модернизма, — и характерный симптом эволюции женского персонажа в литературе.
В неоконченном пушкинском “Романе в письмах” (1829), героиня Лиза пишет:
… чтение Ричардсона дало мне повод к размышлениям. Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек! что есть общего между Ловласом и Aдольфом? Между тем, роль женщин не изменяется. Кларисса, за исключением церемонных приседаний, все же походит на героиню новейших романов. Потому ли, что способы нравиться мужчине зависят от моды, от минутного мнения… а в женщинах — они основаны на чувстве и природе, которые вечны”3.
Любопытное размышление; в нем женщина как будто выше оценена, чем мужчина, но заключается навечно в одной и той же пассивной роли.
Лиза не права. Готье доказывает это не только “Влюбленной покойницей”, но и одним из любопытнейших своих романов, написанным в 1834 году.
Странно: о знакомстве Лермонтова с Готье я не нашел ничего в критической литературе, но Лермонтов не мог, конечно, проглядеть одну из самых шумных литературных фигур тех лет, главного французского скандалиста-романтика.
В статье Хансена-Леве исследуются аналогии, на которых строится “Герой нашего времени”: теми же словами описываются в нем женщины, лошади и сам Печорин. Законно связывая эти описания с сексуальной символикой романа, автор статью отсылает для понимания ее к Ницше и Вейнингеру.
Проще и экономнее поверить самому тексту:
В ней было много породы (…) порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит юной Франции. Она, то есть порода, а не юная Франция, и т. д. (…)
Пародийный по тону отрывок прямо указывает на источник: Готье был руководителем кружка “младофранцузов” и автором цикла новелл под названием “Les Jeunes France”.
Teкст же его, в котором повторяется сравнение женщин с лошадьми — по всей вероятности “Мадемуазель Мопен”, роман, героиня которого имела прототип в знаменитой авантюристке XVII-ого века: это история женщины, переодетой мужчиной, побеждающей на дуэлях сильнейших бретеров, влюбляющей в себя и мужчин и женщин, и история молодого либертина, вдруг обнаруживающего, что он влюблен в мужчину.
Не буду пересказывать романа Готье, известного между прочим, тем, что в предисловии к нему высказана теория “искусства для искусства”, ставшая одной из точек отсчета, положительной или отрицательной, для всего XIX века вплоть до модернизма. Не буду пространно комментировать — хотя они этого и достойны — отрывки, которые приводятся в приложении; легко сверить их с лермонтовским текстом (несколько параллелей приводятся там же). Скажу лишь, что в романе Готье увлечение красотой (оно характерно и для Печорина, которого отталкивает всякое уродство) ведет к принципу наслаждения жизнью как красотой, к чувству сопричастия к прекрасному в природе и даже к чувству растворения в ней.
И этот эстетизм оправдывается метафизикой — равнодушием звезд к миру людей, отсутствием Бога.
Особо отмечу отрывок, где экзистенциальная скука, общая всем модникам того времени, объясняется очень неожиданно: невозможностью оставить себя, войти в другого, отождествиться с ним или с ней. Не настаивая на обязательной и прямой зависимости романа Лермонтова от Готье, полагаю, что такое понимание скуки дает одну из возможных мотивировок не только персонажа Печорина, но и всего построения “Героя нашего времени”.
Для пояснения сказанного и того, что еще предстоит сказать, даю в виде иллюстрации схему отношений между действующими лицами.
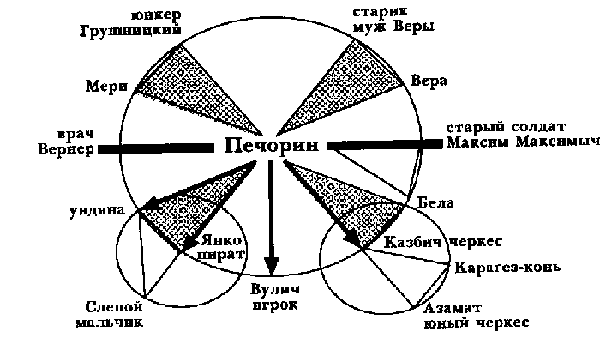
Схема показывает, как персонажи связаны между собой, с одной стороны, системой любовных треугольников, с другой — векторами (частичного) тождества между Печориным и героями новелл, каждая из которых дана в ином жанровом ключе. Наличие в тексте обозначенных стрелками “векторов идентификации” не нуждается в пространных выкладках: именно благодаря им осуществляется единение разрозненных повестей в романное целое.
Я вернусь к вопросу о то, какие жанровые каноны испытываются в “Герое” и какая традиция позволяет такое испытание провести. Задержусь пока на проблеме, так сказать, диссеминации героя, его автопроекции в других.
Печорин не просто переодевается черкесом, он целиком входит в эту роль, для себя и для других (в нем видят черкеса и Максим Максимыч, и Мери), он сравнивает себя с матросом “разбойничьего брига”; он воспроизводит жест Вулича, который в описании его отъединенности от других дан очень близко к Печорину. Наиболее же для нас интересна в этой перспективе безымянная героиня “Тамани”.
Ею почему-то пренебрегают в разговоре о романе Лермонтова, до такой степени, что иногда просто забывают в списках действующих лиц. Тем временем, это единственная женщина в романе, которая играет активную роль, соблазняет Печорина, и чуть его не убивает; он “всегда приобретал над женщинами, над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь”; но ундина уходит из-под его власти. Достаточно сравнить ее с такой же дикой красавицей, пушкинской Земфирой из “Цыган”, чтобы увидеть разницу: Земфира готова умереть за свою любовь, ундина готова убить.
В ней есть сходные черты с самим Печориным; более того: именно это единственный женский персонаж, в который проецирует себя Печорин. Его гимн свободе в концовке “Княжны Мери” облечен по контрасту с горной топографией эпизода в форму песни о море (и почти в те же слова, что в “Парусе”). Тут явно поэтически преображено то место “Тамани”, где Янко-контрабандист “мужествует с бурей”, а ундина на берегу всматривается в море, ожидая своего любовника. Печорин мечтает о судьбе Янко, позой своей точно повторяя позу ундины.
Женственность и мужественность, стирающие между собой границы, меняющиеся местами, это не только романтическое клише; это тема Готье, которую он, между прочим, передал в наследство модернизму. Мы привыкли видеть в Готье только парнассца, автора “Эмалей и камей”; об амбивалентности его прозы забыли; но она четко воспринималась в конце прошлого и в начале этого века; романом о барышне Мопен зачитывался весь модернизм4; Мандрагора (Alraune, 1911) Ханнса Хейнца Эверса, будущего любимого писателя Гитлера, интереснейший роман, целиком организованный вокруг андрогинных мотивов из “Мадемуазели Мопен”, свидетельствует о таком восприятии в Германии; позволительно думать, что и для акмеистов, особенно для Кузьмина и Гумилева, неожиданный, казалось бы, выбор Готье в качестве образца для подражания был обоснован не только ювелирностью поэзии. Историк французской литературы Гюстав Лансон в то время писал:
Значение Готье велико для нашей литературы: (…) своей ненавистью к буржуа он дал начало эксцентричному, болезненному, тошнотворному романтизму, который становится в позу ярости и имморализма: он породил Бодлера5.
Готье был денди. Печорин тоже.
Напомню лишь о двух аспектах дендизма.
Во-первых, универсальность стремления отделить себя от других, превращая в сакральный ритуал свою манеру одеваться и вести себя. Шатобриан нашел денди среди американских индейцев, Барбэ д'Оревильи, сам известный денди, автор книги-манифеста о лондонском законодателе мод и дендизма, близком друге Байрона, Б Браммеле, нашел их в России, прочитав рассказ Рюльера об эпохе екатерининского переворота.
О движении дендизма в России начала XIX-го века рассказано во многих работах; последняя из них, правда, заканчивает свой обзор как раз до Печорина, ограничивая период 1837 годом6. Думается, однако, что понятие это можно использовать и для более позднего времени.
Наверняка стоит применить его к эпохе модернизма. Под него хорошо подходят Гумилев, Кузмин, Волошин (последние, кстати, писали статьи к переводам Барбэ д'Оревильи7). Денди и анти-денди, занятые эпатажем с помощью одежды и поведения, существовали в авангарде — Северянин, Игнатьев, Маяковский, Бурлюк. Потом появились Булгаков, Замятин — автор эссе о Шеридане, предшественнике Бо Браммеля. Не читается ли дендизм у Пастернака, в персонаже Юрия Живаго? Оставим для другого случая эти вопросы.
Барбэ так описывает в своей книге, написанной немного позже “Героя”, в 1844 г., второй аспект дендизма, о котором я хочу напомнить:
Натуры двойные и множественные, обладающие неопределенным интеллектуальным полом, при котором изящество становится еще более изящным благодаря силе, а сила обнаруживается в изяществе; Aндрогины Истории, а не Вымысла, среди которых Aлкивиад представлял собою самый прекрасный тип у самой прекрасной из наций.8
Денди вечны, как каприз, как фермент — они будут всегда, они необходимы человечеству. Кстати, не эта ли мода на андрогинный дендизм отразилась у Василия Розанова в его мыслях о третьем поле, о людях лунного света, в которых смешаны женственность и мужественность?
Итак, Печорин — денди.
Однако, Готье мне нужен был не только и не столько для того, чтобы обосновать литературной ссылкой этот очевидный факт. Оправданное многими параллелями сопоставление с “Мадемуазель Мопен” позволяет подумать о “Герое нашего времени” в свете связи с литературной традицией либертинства.
Об этой традиции в лермонтовском контексте не говорится.
Сопоставляя Печорина с героем кьеркегоровского “Дневника соблазнителя”, толкуя его на культурном фоне позднего романтизма, Хансен-Леве не испытывает необходимости в термине “либертин”. Он часто ссылается на книгу, исследующую миф совратителя9. Там тоже ничего не сказано о либертинском жанре, но в ряду воплощений мифа рассматривается Вальмон, герой “Опасных связей”.
Нельзя рассуждать о либертинстве и не обратиться к “Опасным связям” (1782, переведенным на русский язык уже в 1804 г.: конечно, русская элита не нуждалась в переводах для знакомства с французской литературой).
К пушкинскому отрывку “Гости съезжались на дачу” (1828), где роман Лакло упомянут, в 10-томнике 1960 г. Дано пояснение: роман “фривольный”. Пушкин находил в нем “тяжелую безнравственность”10. Aндре Жид считал учебником разврата (можно, впрочем, полагать, что автор “Имморалиста” не вкладывал в это понятие отрицательного смысла: тем интереснее его мнение). Роман во все времена казался скандальным, может быть потому, что в центре его стоит, наряду с классическим денди-либертином, и оттесняя его, Женский Ловелас (Гримм), Сатанинская Ева (Бодлер) — маркиза Мертей, прямая предшественница самых радикальных феминисток, с ее лозунгом: “Я рождена, чтобы отомстить за мой пол и подчинить себе ваш”.
Беатриса Дидье, историк французской литературы, называет книгу Лакло — квинтэссенцией либертинского романа.11
“Опасные связи”, роман, рисующий нравы общества, конечно же, психологичен (своим умением с микроскопической тщательностью изучать чувства, ощущения, движения души литература многим обязана либертинской прозе, которая недаром связана, в свою очередь, с жанром исповеди). Но он окрашен и метафизическим ощущением мира. Любовь в “Опасных связях”, как в мифе о Дон Жуане, сопрягается со смертельным риском и со смертью, а Вальмон и маркиза Мертей предстают демоническими, открыто богоборческими фигурами. Мало в литературе произведений, где так тщательно и мастерски анализировалась бы “привлекательность зла” — один из главных вопросов, которые ставит перед собой Печорин.
Люди нового времени, разоблачающие принятое обществом понимание добродетели, сознательно бросающие вызов Добру, отрицающие Бога и ставящие себя на его место, требующие для себя того обожания-обожествления, с каким чистая душа обращается к Богу — такова герои “Опасных связей”.
Вместе с тем, борьба полов, о которой говорит Хансен-Леве, доведена в “Опасных связях” до высшего накала: любовь рассматривается там и как игра (при которой влюбиться по-настоящему, значит, нарушить правила — точно так думает и Печорин), и как война (схватка не на жизнь, а на смерть в “Тамани”), и как охота (страсть Печорина к охоте уже упоминалась), как борьба за полную власть над другим. Показаны и сила любви, и трагическая неспособность к любви, воспитанная обществом, светом, но взятая на вооружение для борьбы со светом.
Все это печоринская проблематика. Есть и ситуационные совпадения: о том, как свет развратил его душу, Печорин рассказывает княжне Мери, с целью разжалобить ее, словами, очень похожими не те, какими Вальмон оправдывает свою репутацию либертина в письме г-же Турвель.
Конечно, различия между романами не менее важны, чем сходства. Интересно, например, сопоставить стиль цинизма у Печорина и у маркизы Мертей: навеянные романтической лирикой слова первого о том, что “необъяснимое наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок… его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге” (…) и сугубо материалистическую максиму второй: “женщины — машины для наслaждений (machines à plaisir), пружины и двигатели которых легко понять; поэтому для того, чтобы безопасно ими пользоваться, надо действовать быстро, остановиться вовремя, а затем — сломать”12.
“Опасные связи” дают прекрасно понять, что такое либертин, чем он отличается от денди. Последний не обязательно сатаничен и не обязательно совратитель, он вообще не требует определенной сексуальной реализации. Его эротизм прямо направлен на себя и только косвенно — вовне; это эстет, который и в лохмотьях сохранит сознание превосходства над другими. Стремясь к полному владению собой, он в любой ситуации обозначает свое отличие позой, туалетом, жестом. Либертин утверждает себя только через других и добивается не символической, а реальной власти; он не пропускает ни одной возможности войти в любовную связь, стремится к быстрому овладению и насыщению женщиной, составляет строгую иерархию отношений с женщинами, по возрасту, социальному положению, доступности, опыту и т.д. ( так, Вальмон одновременно совращает и добродетельную президентшу Турвель и юную Сесиль, а Печорин — неопытную Мери и замужнюю Веру).
Эти две модели поведения часто сочетаются, тем не менее, они не совпадают. Снова и того, и другого — стремление к личной свободе. Говоря грубо, оба они, опираясь на те же принципы, реализуют их по-разному. Очень кратко перечислю главное,
Первый принцип — удовольствия, удовлетворения желаний как цели жизни; но либертинство может быть коллективным, оргиастическим (пример: утопия Фурье); дендизм же только индивидуален, он воплощает эготизм (термин Стендаля)-нарциссизм — культ себя как цель жизни. Второй принцип устанавливает эквивалентную взаимосвязь внешнего (одежда, жесты) и внутреннего (поведения-кода отличия). Но денди может и в лохмотьях сохранять изящество, сохраняя свое превосходство; либертин же не обязательно отмечает свое отличие вне любовной ситуации, и т.д. Наконец, третий принцип: свобода от светских условностей для утверждения себя; но денди самодостаточен: это обожествление индивида для самого себя, объективация себя, тогда как либертин не может обойтись, и не может утвердить себя вне отношений власти: он должен обладать другим, т.е. подчинить своей власти. Печорин проявляет черты то одной, то другой модели.
Эйхенбаум пишет, что (трансформированный онегинский парадокс) “я вас не люблю”, фраза, сказанная княжне Мери, — зерно романа. Но можно добавить: онегинский парадокс идет, если не прямо, то косвенно, от вальмоновской, но составленной маркизой Мертей речи: “это не моя вина”, в которой законами природы объясняется желание, жажда наслаждения, угасание любви — вся софистика либертинства.
Эйхенбаум говорил, что Лермонтов воспринял байронизм через призму французской неистовой школы: на это особенно четко указывает построенность ужасов (рациональность аффекта) в его вещах. Но кажется несомненным, что байронизм пропускается и через призму либертинства.
Либертинская перспектива удобна по многим причинам.
Она бросает интересный свет на структуру произведения, в котором все — начиная с имен и характеров героев и кончая жанровыми клише — подчиняется принципу соединения-разъединения; это прекрасно видно при сравнении романа с “Княгиней Лиговской”: Вера Лиговская разделяется на Веру и Мери Лиговскую, Грушницкий как бы слеплен из Горшенко и Браницкого, Печорин как бы дополняется красотой Красинского, в “Героя” перекочевывает польская тематика, но в осколочном виде, а начатое романное (цельное) повествование распадается на ряд автономных эпизодов.
Роман как бы склеен из разножанровых новелл: общепринятый прием в то время — и на Западе (у Гофмана, например), и в России (у Марлинского). И вместе с тем единство романа сохраняется не только образом героя, но и — а может быть, и прежде всего — общей установкой на либертинскую традицию. Светская повесть, конечно, прямо от нее зависит. Но с XVIII века она питает и восточную новеллу (например, “Нескромные драгоценности” Дидро), она скрещивается и с утопией, и с авантюрным романом.
Тут было бы к месту сказать несколько слов об Эжене Сю и его “Пирате Керноке” как одном из вдохновителей и источников Лермонтова, и о связи либертинского романа с респектабельной традицией рассказов о пиратских похождениях — можно упомянуть и эротические эпизоды с пиратами и с андрогином в гениальном “Сатириконе” Петрония, и пиратско-любовные перипетии в “Aргениде” Джона Барклея, которая в переводе Тредиаковского (1751) вызывала в России настоящие сладострастные чтения, о чем интересно рассказывает Болотов в своих “Записках”. Но пора идти к концу.
Для нашей встречи, может быть, интересно подчеркнуть, что либертинский роман есть и анализ аффекта, и наука о том, как его вызывать и направлять. Сартр так и утверждает: картина совращения в “Опасных связях” “дает нам практическое знание другого и искусство воздействия на него”13.
Дело в том, что либертинский роман тесно связан с рациональным дискурсом — мировоззрением и языком Просвещения.
Когда маркиза Мертей говорит, что “любовь, как и медицина, всего лишь искусство помогать природе”, она цитирует ученых XVIII века.
Одного из них здесь стоит упомянуть: математика, физика, физиолога Мопертюи. В замечательной книге “Физическая Венера” (1744), написанной за 50 лет до “Опасных связей” и за 100 — до “Героя нашего времени”, он закладывает фундамент теории наследственности и впервые отводит в деторождении активную роль матери, рассуждая о курьезном факте существования “белых негров”, причем делает это в форме светской болтовни “для дам” с включением фривольных эпизодов.
Не откажу себе в удовольствии процитировать хотя бы одну фразу: говоря о червях, у которых отрезанная часть превращается в самостоятельную особь. Мопертюи, создатель картины природы, действующей по принципу сексуального наслаждения, с невинной миной задает удивленный вопрос:
Неужели природа, для всех других животных связавшая с актом размножения удовольствие, одарила эти существа каким-то сладострастным чувством, которое они испытывают, когда их режут на куски?14
Здесь заключен чуть ли не весь маркиз де Сад, и либертинский роман, и вообще вся философия жизни, подчиненной желанию.
От диалога между романом XVIII-го века и Мопертюи до Шодерло де Лакло и затем — до Готье идет традиция, влияние которой на литературу, мировую и русскую, еще не оценено, по крайней мере в русском литературоведении.
Это влияние на Лермонтова, надеюсь, достаточно показано.
Печорин — и денди, и либертин. Столкновение в нем этих двух моделей определяет его двойственность, его разные понимания свободы, умеренное и радикальное, более внешнее и более внутреннее.
Роман построен так, что герои новелл — восточной, фантастической, пиратской — находятся вне общества: это преступник (ундина и Янко как бы воспроизводят пару Кернок и его сподвижница мулатка), немирной черкес, серб, замуровавший себя в единственной страсти к игре. С ними — в литературной мечте — отождествляется Печорин: это как бы его проекции в мир полной свободы.
В мире, где живут Грушницкие (оставим анализ польской проблематики для другого случая, здесь ограничимся пониманием Грушницкого как печоринского двойника, оставившего мечты), в “свете”, остается осуществлять свою свободу в позе денди и либертина.
Приложения
1. Отрывки из “Мадемуазель Мопен” Теофиля Готье ( Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin (1834), Garnier, 1966 )
p. 135
У меня было желание, живое, горячее — иметь любовницу, любовницу, принадлежащую только мне — как лошадь… Я прошу у женщин одного — удовольствия… красоты (…) Я люблю богатую парчу, прозрачность текущей воды и сверкающий блеск изящного оружия, породистых лошадей и тех больших белых собак, которых можно видеть на картинах Паоло Веронезе.
p. 114
Я не думал, не мечтал, я слился с окружающей меня природой, я чувствовал, как дрожу вместе с листвой, переливаясь отблесками с водой, загораясь с лучом солнца, раскрываясь с цветком…
p. 197-198
Творение беспощадно насмехается над тварью, не переставая жалить ее стрелами сарказма. Все с равнодушием относится ко всему, все живет или влачит существование по своему закону. Сделаю ли я то или другое, буду ли страдать или наслаждаться, скроюсь под маской или буду откровенен, какая от этого разница солнцу, или свекольному корню, или даже людям? Соломинка упала на муравья, сломала ему третью ножку во втором суставе, скала рухнула на деревню и раздавила ее, — не думаю, чтобы одно из этих несчастий больше, чем другое, заставило плакать золотые очи звезд.
p. 94-95
Aх, не иметь возможности увеличить себя ни на одну частицу, ни на один атом; не почувствовать, как в твоих жилах течет другая кровь; видеть всегда своими глазами, ни лучше, ни дальше, ни по-другому; слышать теми же ушами…, трогать теми же пальцами…, всегда сохранять самого себя, ужинать и ложиться спать с самим собой, — быть тем же мужчиной для двадцати новых женщин; среди самых странных ситуаций нашей жизненной драмы тащить за собой навязанный персонаж, роль которого вы знаете наизусть; думать те же мысли, видеть те же сны: — какое мучение, какая скука!
p. 140
Насыщение следует за наслаждением, это естественный закон, его легко понять и т.д.
p. 177
Ты знаешь, с каким рвением я искал физической красоты, какое значение я придаю внешней форме, какую любовь я испытываю к зримому миру: должно быть я слишком испорчен и чересчур пресыщен, чтобы верить в красоту душевную (моральную) и преследовать ее с настойчивостью. — Я совершенно потерял знание добра и зла, … почти что вернулся к неведению дикаря и ребенка.
p. 205
Если бы я точно узнал, что Теодор не женщина, увы! не знаю, не продолжал ли бы я и тогда его любить!
2. Маркировка проекций в тексте “Героя нашего времени”:
Печорин ® Казбич
Я думаю, казаки… верно по одежде приняли меня за черкеса … Я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста… — Mon Dieu, un circassien! … — вскрикнула княжна в ужасе.
Печорин ® Янко
Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце.
Печорин ® ундина
…он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте… желанный парус…
Печорин ® Вулич
В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.
1 Aage Hansen-Löve, “Pecorin als Frau und Pferd”, Russian Literature, 1992, vol. 31/4; 1993, 33.
2 У Хлебникова, например, “сознание соединяет времена вместе, как кресло и стулья гостиной”. См. в: ПСС, т. IV, стр. 47.
3 Собрание сочинений в X тт., т. 5, стр. 478.
4 См., напр., Mario Praz, La Chair, la mort et le diable dans la littérature du XIXe s., Denoöel-Gallimard, 1998.
5 Gustav Lanson, Histoire de la littérature française, 21 ème édition, Hachette, (1912), p. 967.
6 Wolfgang Kissel, Russischer Dandysmus der Puskin-Zeit (1801—1837): Studien zum historischen, kulturellen und sozialpsychologischen Kontext, Bonn, 1991.
7 Жюль Барбэ д'Оревильи, Джордж Бреммель и дендизм (пер. М. Петровского, статья М. Кузмина), СПб., 1912; Жюль Барбэ д'Оревильи, Лики дьявола (пер. A. Чеботаревской, статьи М. Волошина), СПб., 1908.
8 Барбэ д'Оревильи, Джордж Бреммель и дендизм, стр. 115.
9 Hansen-Löve, s. 198: Betty Becker-Theye, The Seducer as Mythic Figure in Richardson, Laclos and Kierkegaard, Garland Publ., New York-London.
10 стр. 470.
11 Béatrice Didier, “Preface”, in: Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses, Paris, 1989, p. 15.
12 Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses, p. 276.
13 Цит. по: Betty Becker-Theye, p. 101.
14 Pierre Louis Maupertuis, Vénus physique, Paris, 1997, p. 60.
| начальная | personalia | портфель | архив | ресурсы | о журнале |