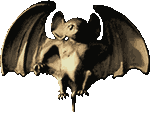| |
Л.В. Пумпянский
 ГРУППА «ТАИНСТВЕННЫХ ПОВЕСТЕЙ» ГРУППА «ТАИНСТВЕННЫХ ПОВЕСТЕЙ»
1
Современное материалистическое языкознание («яфетическая теория акад. Н. Я. Марра) выработало очень важное понятие реликтовости, т.е. остаточного («реликтового») состояния языков и языковых форм. Так, пример, между тем как «яфетическая» стадия человеческих языков давно сменилась «индоевропейскою», в горных ущельях Кавказа доныне сохранились в неприкосновенности реликтовые чисто яфетические языки.
Это понятие реликтовости можно, думается нам, распространить на изучение всей области идеологического творчества. Что иное, как не реликт, христианство (и вообще религия) в XX веке? В эпоху боевого перервала человечества от капиталистического к коммунистическому способу производства, первых серьезных попыток рационально построить человеческое общество, грандиозных открытий физики и не менее грандиозного поворота к материалистическому пониманию истории, миллионы современников Ленина и Эйнштейна исповедуют христианскую религию, т.е. совокупность утверждений, образов, формул и директив, сложившихся две тысячи лет тому назад в восточном углу Средиземноморья, на базе еще более древних представлений, преимущественно древнеегипетских, восходящих в последнем счете к раннеяфетической стадии человеческого рода! С точки зрения современной науки можно положительно утверждать, что египетская религия Изиды еще не умерла и существует, в виде культа богоматери, до наших дней. Классический случай реликта.
Не менее замечательным реликтом еще более отдаленных эпох является вера в таинственное, в сверхъестественное, в существование научно необъяснимых явлений, вообще бытовой супранатурализм во всех его видах.
2
Среди 35, примерно, рассказов Тургенева, отчетливо выделяется группа «таинственных» новелл, написанных главным образом в 60-е и 70-е годы. Это прежде всего 4 новеллы, в которых сверхъестественное явление стоит в центре всего развивающегося действия: «Призраки» 1863 г., «Собака» 1866 г., «Сон» 1876 г. и «Рассказ отца Алексея» 1877 г. группа, центрально симметрично распределенная по обоим десятилетиям. К этим основным 4 новеллам стягивается несколько других, в которых таинственное явление входит как более или менее важная часть (или деталь) в общее развитие действия иного порядка (бытового, психологического и т.д.): «Фауст» 1855 г., «Клара Милич» 1882 г. и, в значительно меньшей степени, «Несчастная» 1868 г. (в ночь, когда умирает Сусанна, герою «внутренний голос» говорит, что у Ратчей в эту минуту происходит что-то Орашное: гл. 20-ая) и «Песнь торжествующей любви» 1881 г. (чары Муция; воскрешение Муция колдовской медициной малайца: гл. 12-ая). К этим 8, в общей сложности, новеллам позволительно присоединить, хотя бы условно, «Странную историю» 1869 г. (ибо рассказанное в ней явление хоть и относится к категории «гипноза», «животного магнетизма», но по психологической и бытовой атмосфере, его окружающей, явно родственно «таинственным» рассказам Тургенева, в особенности «Собаке», от которой «Странная история» отделена, кстати, трехлетним всего промежутком) и «Стук... стук... стук!..» 1870 г. (в котором нет прямого сверхъестественного явления, но разлита атмосфера невыносимого страха перед таинственным); в некотором отдаленном и уже совсем слабом отношении ко всей этой группе находятся «Часы» 1875 г. («Этакая штука удивительная!.. Никак мы от этих часов отбояриться не можем. Заколдованные они, право»: гл. 18-ая). Кроме того, надо иметь в виду, что с таким чисто таинственным рассказом, как «Призраки», связаны рядом философских и лирико-эмоциональных нитей и «Поездка в Полесье» 1857 г. и «Довольно» 1864 г.; все три произведения, как убедительно показал Н. Пиксанов (1), образуют трилогию, объединенную общей идеологической концепцией и общими жанровыми признаками (бессюжетность). Таким образом, одна четверть всех новелл Тургенева прямым образом связана с верой в сверхъестественные явления, а если присоединить сюда в различной степени и в различном смысле примыкающие к ним новеллы, то дробь эта увеличится до одной трети. Мало того: из числа принадлежащих к этой большой и разнообразной группе одна повесть, «Клара Милич» – последнее большое произведение Тургенева, предсмертный его шедевр, быть может, лучшая из всех вообще написанных им повестей.
Вопрос, таким образом, усложняется. Перед нами не случайная прихоть и не случайная ошибка. Тургенев занимает значительное место в истории той «таинственной» повести, которая была обновлена (собственно, заново создана) Эдгаром По, продолжена его французскими последователями (например, Вилье де Лиль-Аданом), а в наши дни представлена в буржуазной литературе Запада, например, стариком Мейринком, не говоря уже о десятках заурядных беллетристов, особенно английских (Бенсон!), изготовляющих для своего потребителя оккультные, спиритические, таинственные и страшные романы.
Как понять присутствие Тургенева в этом ряду? Как понять положительное отношение творца Базарова к суевериям элементарного супранатурализма?
3
Возвратимся к установленному нами выше явлению реликтов. Оно свидетельствует, как невероятно сложна идеологическая «панорама» каждой данной эпохи. Человечество еще влачит за собой идеологические последствия всех давно пройденных стадий его истории. Почему так трудно от них освободиться? Потому что реакция в каждую данную эпоху мобилизует всю громадную психологическую влиятельность реликтов и вводит ее, как цементирующий элемент, в конструкцию общества. Социальная реакция мобилизует идеологические призраки.
Теория акад. Н. Я. Марра указала на реликтовый характер кавказских языков: вот пример реликта нейтрального и социально безразличного (конечно, относительно; вполне безразличных социально явлений нет и не может быть). Реликтом, по-видимому, и тоже нейтральным (возьмем пример из другой области), является рифма, связь которой со стихом, социально-существенная когда-то, в настоящее время приобретает все более пережиточный характер. Но вот пример иного рода, который сразу покажет, какую громадную силу может почерпнуть реакция из влиятельности некоторых идеологических реликтов, пример, для начала намеренно легкий и элементарный: если бы не было в головах людей того идеологического реликта, который называется «военной славой», «патриотизмом», «национальной честью» и т. д., то империалистическую войну 1914– 1918 гг. буржуазия могла бы задумать, но осуществить ее не удалось бы ей никогда, вернее ей пришлось бы изобретать иную «мотивацию» этой войны. «Патриотизм» сложился в результате войн за национальную независимость и буржуазно-национальное объединение (1813; 1859; 1870-1871), вследствие чего играл когда-то относительно прогрессивную роль. Но начиная с 1871 года, когда процесс создания буржуазно-национальных отечеств завершился в Европе сполна, патриотизм входит (реликтовую стадию, становится «свободной» идеологической силой, которая доступна иному использованию; и действительно, патриотизмом овладевает – империализм и пользуется им (надо сказать, мастерски) для своих собственных целей, ничего общего не имеющих с целями действительно национальных прежних войн XIX века.
Этот случай потому легок, что данная реликтовая идеология, патриотизм, недавнего происхождения (по крайней мере, в этой ее форме), а также потому, что реакционное ее использование 1914-1918 гг. граничило с сознательным обманом. Гораздо сложнее связь социальной реакции с такими идеологическими реликтами, как религия или вера в таинственные явления, и конечно, не в этой краткой статье можно проанализировать такое громадное, разветвленное явление, тем более что конкретная эмпирическая социология есть наука, и у нас и на Западе едва намеченная. Скажем кратко (и голословно), что за все века истории капиталистического общества наблюдалось одно общее явление: без реликтов религий и суеверий оно вообще обойтись не может, причем нужда в них становится тем острее, чем замедленнее развитие социальных форм. Только этим объясняется одиозная возможность существования религий в XIX и XX вв., в хронологической совместности с современной наукой, да и ряда других идеологических иллюзий, творенья давно отошедших эпох, однако все еще нужных капитализму, потому что ими он «замазывает свои щели», затыкает провалы и зияния своей анархической и эксплуататорской конструкции. Стоит сравнить, например, антиклерикализм французской буржуазии в XVIII в., в передовую, бурно-прогрессивную фазу ее развития, с литературным неокатолицизмом 1820-х и официальным католицизмом 1850-х годов, чтобы понять, как громадна связующая сила реликтов во все эпохи замедленного социального развития.
Замечательно, что не только социально-политическая, но и культурная реакция всегда старается связать себя с влиятельными идеологическими реликтами. Классический пример – европейский романтизм в роли «поэтического дядьки чертей и ведьм»; под флагом романтизма все виды мистики, начиная от правоверного католицизма (Шлегель), кончая оккультизмом и магией (Ю. Кернер), торжественными призраками вернулись в европейскую культуру – прискорбное зрелище, повторявшееся в уменьшенных размерах в России в начале XX века, когда необуржуазное литературное движение символизма сразу, с первых дней своего существования вступило в союз с мистико-религиозными реликтами тоже всех видов: православная догматика (Вяч. Иванов, Флоренский), магия (В. Брюсов), антропософия (А. Белый и отчасти А. Блок) и т. д. Дело не в персональных верованиях этих поэтов и тем более не в вопросе об их «искренности» или «позе» (абсолютная психологическая искренность и абсолютная психологическая поза вообще очень редки; в строительстве культуры гораздо большую роль играют различные из них сплавы), а в более общем, очень важном явлении: все реакционные культурные движения XIX в. (даже или, вернее, в особенности наиболее квалифицированные) характеризуются усиленно-положительной оценкой идеологических реликтов. И обратно: как только мы видим значительное участие реликтов в сложении какого-нибудь литературного движения, или направления, или системы, мы вправе сделать заключение об их реакционной социальной функции.
4
В 50-е годы во всей Европе произошло повальное распространение веры в сверхъестественные явления. Само по себе это было не ново; буржуазная культура периодически переживала подобного рода половодье суеверий; распространение розенкрейцерства и иллюминатства в Германии в конце XVIII в. (в особенности в Пруссии в 1780-90-е гг. при Фридрихе-Вильгельме II, в министерство пресловутого Вельнера) было явно социально-патологическим явлением; а совсем незадолго до 1850-х годов закончилась история романтической фантастики, тоже имевшей немалое бытовое распространение. Нов, таким образом, был не самый факт; но нова была его тональность, его культурно-идеологическая окраска: в 1850-е и 60-е годы вера в таинственные явления вступает в противоестественный союз с буржуазным позитивизмом, что придает ей совершенно новый и особый характер. Как раз с этой фазой истории европейских суеверий и связаны «таинственные» новеллы Тургенева, вследствие чего, как мы сейчас увидим, их нельзя ни связывать, ни сравнивать с творчеством такого действительно великого фантаста, как Т. А. Гофман.
Фантастическое у великих романтиков начала XIX века играло, конечно, большую роль в их литературной системе, но входило в нее свободно, само по себе, не как часть обязательного мировоззрения. Подобно тому как, скажем, никто не видит программного мировоззрения в появлении на сцене призрака отца Гамлета или ведьм в начале «Макбета», так и фантастическое у романтиков выступает без всяких программных притязаний, без всякой догматической и пропагандистской функции. В этом отсутствии догматической притязательности заключается главная привлекательность вечно юных повестей Гофмана (или «Пиковой дамы», написанной под самым непосредственным воздействием Гофмана). Вот почему у Гофмана в центре фантастического рассказа стоит не само сверхъестественное явление, а переживающий, видящий его, не фантастика, а фантаст,– типичный гофманов чудак, ученый студиозус, влюбленный мечтатель, либо мономан, маниак – носитель поглощающей его страсти. Благодаря этому, сверхъестественное явление входит не непосредственно в кругозор читателя, а в первую очередь в кругозор героя, чем сразу расслабляется его возможное догматико-убедительное значение: суевер не найдет в «Пиковой даме» подтверждения своему суеверию, а не верующий в привидения не найдет в ней оснований для спора и опровержения; оба прочтут повесть совершенно одинаково, потому что мертвая графиня является не читателю, а только Германну, так что сверхъестественное явление заключено внутрь того магического ободка, которым художественное произведение отделено от реальности. Только такое введение сверхъестественного явления в поэзию следует называть фантастикой. Но по этой же причине «таинственные» повести Тургенева неверно было бы называть фантастическими. Они могли возникнуть только тогда, когда традиция русского гофманизма 30-х годов (Одоевский, «Пиковая дама», «Портрет» Гоголя) прервалась, а общеевропейская реакция 50-х годов подсказала иной, гораздо более грубый (граничащий, как мы ниже увидим, с вульгарным), вид введения в поэзию элементов таинственного. Грубость заключалась именно в том союзе суеверия с позитивизмом, о котором мы говорили и благодаря которому буржуазная фаза в истории человеческих суеверий отличается странным противоречием: явление, с одной стороны, признается сверхъестественным, с другой, признается не только его наличность, но и доступность опытному познанию и даже экспериментированию, – следовательно, «естественность». Таинственное перестает быть фантастикой, становится оккультной эмпирией и уже как таковая входит в литературу эпохи реакции. Эпиграфом к своим «Призракам» Тургенев взял романтические стихи Фета:
Миг один – и нет волшебной сказки,
И душа опять полна возможным.
Он не имел на это никакого права. Его таинственное как раз тем и плохо, что оно не есть «волшебная сказка» и представляет собою особую категорию «возможного», логически уродливую категорию «возможной невозможности».
5
Сигналом к патологическому распространению оккультных интересов послужили газетные статьи о медиумических способностях американских сестер Фокс (1848). В Европе первый медиум появляется в 1852 году. Начиная с этого года эпидемия столоверчения проходит по гостиным «образованного общества» (см. в самом начале «Призраков»: «Чорт бы побрал эти глупости с вертящимися столами! подумал я, только нервы расстраивать», а также гл. 15-ю «Дыма», в которой сатирически изображен сеанс салонного медиумизма: действие «Дыма» приурочено к 1862 году). Шарлатаны-медиумы (вроде знаменитого Юма, приезжавшего и в Россию) становятся европейскими фигурами. Кругом разговоры о спиритизме, о медиумической силе, о привидениях, о сбывшихся предчувствиях. В переписке любого литературного или общественного деятеля тех лет можно найти много следов этой курьезной инфекции умов (даже в письмах А. И. Герцена; что ж до другого великого изгнанника эпохи реакции, Виктора Гюго, следы интереса к сверхъестественному и веры в него заметны не только в переписке, но даже в его стихах 1860-х годов).
От «образованной черни» интересы эти подымаются повыше. В «Преступлении и наказании» Достоевского (работа над которым происходит в 1865– 1866 гг., т. е. как раз в эпоху обостренно-оккультных симпатий Тургенева: «Собака» 1866) очень интересное место посвящено попытке «философского» оправдания веры в привидения. Рассказав Раскольникову, как ему дважды явилась Марфа Петровна, его покойная жена, а когда-то и покойный Филька, Свидригайлов переходит к теоретическим размышлениям: «Ведь обыкновенно как говорят?.. Они говорят: „Ты болен, стало быть, то, что тебе представляется, есть один только не существующий бред". А ведь тут нет строгой логики. Я согласен, что привидения являются только больным; но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе как больным, а не то, что их нет, самих по себе... Ну, а что, если так рассудить...: „Привидения – это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть... Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира..."» («Преступление и наказание», Ч. IV , I ; по изд. 1929 г., С. 232– 235). Но, во-первых, ответим мы Свидригайлову-Достоевскому, это рассуждение есть не довод за существование привидений, а опровержение одного из возможных контрдоводов; контрдовод может быть неверен сам по себе, из чего все же нельзя заключать о неверности защищаемой им позиции; во-вторых, рассуждение Достоевского предполагает существование «других миров» и, уже опираясь на безмолвно предположенную несомненность их существования, доказывает реальность привидений; а что скажет Свидригайлов оппоненту, не признающему этой предпосылки?
Заинтересовался привидениями и Шопенгауэр. Он даже посвятил им небольшой особый трактат «О духовидении и родственных явлениях» («Ueber das Geistersehen und das damit Verbundene », 1859), очень слабый даже с точки зрения его собственного учения. Но мнение Шопенгауэра нам в данном случае особенно важно, потому что (как мы старались показать во вступительной статье к предыдущему тому этого издания) философские взгляды Тургенева сложились под решающим его влиянием. Возможность предвидения будущего Шопенгауэр объясняет кантовой идеальностью времени: «ведь если время не есть определение собственной сущности вещи, то „до" и „по", „прежде" и „после" по отношению к ней не имеют никакого значения, и, стало быть, поэтому какое-либо событие может быть так же познано до совершения, как и по совершении». Возможность привидений подкрепляется тем, что мол ведь и «весь объективный мир есть просто мозговой феномен». Все же вообще таинственные явления радуют Шопенгауэра, как доказательство, что «априорные законы познания отнюдь не безусловные veritates aeternae схоластиков, не определение вещей в себе, а просто вытекают из форм созерцания и интеллекта, т. е. из функций мозга». Все эти рассуждения покоятся на грубо софистическом искажении кантова и даже собственного учения о познании Шопенгауэра. Но именно философская вульгарность трактата сделала его крайне известным, тем более что как раз в конце 1850-х годов Шопенгауэр вошел в славу и моду. Трактат о «духовидении» немало способствовал дальнейшему распространению суеверия в интеллигентной публике.
Мы привели все эти данные, чтобы читателю было вполне ясно, в какой идеологической атмосфере сложились «таинственные» повести Тургенева. Атмосфера эта сложна. Она охватывает, в нижнем конце, столоверчение в гостиной английского буржуазного дома, а в верхнем – учение о неделимости мировой воли модного буржуазного философа Шопенгауэра. Но и в карикатурно-бытовых и в квалифицированно-философских ее проявлениях перед нами одна и та же душная, болезненно-неподвижная, нервно-обеспокоенная атмосфера эпохи, остановленной в своем социальном развитии, идеологическая фотография Европы в десятилетия реакции.
6
Тургенев ли первый ввел в поэзию элементы этой новой идеологии, «позитивной таинственности»? Это очень маловероятно ввиду, во-первых, западноевропейского происхождения самой этой идеологии, а во-вторых, западной ориентации всей новеллистики Тургенева в эти годы (Ж. Санд, Т. Шторм, П. Гейзе: см. нашу вступительную статью к предыдущему тому этого издания – «Тургенев-новеллист»). Сверхъестественное явление (не в гофманском фантастическом, а в вышеобъясненном «позитивном» смысле слова) есть уже в любопытном романе Бальзака « Ursule Mirouet » 1841 г. Как раз в 60-е годы начинается европейская слава Э. По, с творчеством которого «таинственные» новеллы Тургенева связаны многими нитями (2). Но для постановки всех этих вопросов нужна большая компаратистская работа, еще не проделанная в нашей научной литературе. Вследствие этого неясно, как сложились тургеневские методы введения таинственного явления в новеллу.
Те же ли они, например, что у Э. По?
По-видимому, нет. Тургенев тщательно стушевывает таинственный характер явления, растворяет его в рассказе, обставляет рядом чужеродных элементов (например, комически-бытовых), вообще пользуется целым аппаратом средств для сплава таинственной части рассказа с нейтральным материалом. К этой основной особенности надо присмотреться.
Прежде всего, у Тургенева почти всегда введены элементы «второго» толкования, естественного. У Аратова в руке нашли прядь волос Клары. «Откуда взялись эти волосы? У Анны Семеновны была такая прядь, оставшаяся от Клары; но с какой стати было ей отдавать Аратову такую для нее дорогую вещь? Разве как-нибудь в дневник она ее заложила – и не заметила, как отдала?» (в конце последней, 18-й главы). Тургенев (персональное подлежащее нашей фразы, конечно, условно) явно не сочувствует «второму» толкованию, и весь ход повести требует первого (т. е. «таинственного»), но он мастерски владеет техникой новеллы и прекрасно знает, что напомнить с безмолвной внутренней полемикой о возможности второго толкования и значит склонить не к нему, а к первому. Как бы там ни было, перед нами один из методов сплава «таинственного» с нейтральным. Правда, в нем нет ничего специфически тургеневского, потому что он неоднократно применялся уже Гофманом. К характеристике его особо значительной роли в новеллистике Тургенева интересен рассказ «Стук...Стук... стук!..», в котором «второе» толкование вытеснило первое без остатка: стучал Ридель (а не загробная сила), таинственный зов «Илюша!» относился к разносчику Илье и произнесен был вполне реальными женскими устами (а не покойной возлюбленной Теглева), но все же мы не без основания, думается, относим этот рассказ к разбираемой сейчас группе, ибо вытесненное без остатка «первое» толкование оставило все же в рассказе свое сопровождение, свою атмосферу, – эмоцию страха, разлитую на всех его страницах («мы оба вздрогнули – уставились друг на друга»: гл. 8-ая; «что в этом зове было что-то жалобное и таинственное – в этом я тоже должен был себе признаться»: там же; «однако мне стало жутко; невольный страх стеснил мне грудь»: гл. 12-я, и мн. др.) и поддержанную последовательно проведенной пейзажной оркестровкой (3) (густой туман в лунную ночь: «на небе бледным пятном стоял месяц – но свет его не в силах был... одолеть дымную плотность тумана... Голос мой замирал вокруг меня без ответа; казалось самый туман не пускал его дальше»: гл. 13-я; «фонари нисколько не помогали нам; они нисколько не разгоняли той белой, почти светлой мглы, которая нас окружала»: гл. 15-я; и мн. др.); благодаря этим средствам (применение которых у Тургенева является вечным уроком новеллистической техники), победа «второго» толкования уживается с атмосферой «первого», так что все же, хоть в обратном порядке, в результате получается некоторый сплав обоих, как и в «Кларе Милич».
Другим методом нейтрализации таинственного, уже чисто тургеневским, является сплавление его с материалом или даже жанром наиболее чужеродного типа. Резкий пример: за вычетом таинственности событий, рассказ «Собака» является бытовым сказовым анекдотом, весьма близким (вряд ли случайно) к типическим рассказам Лескова. «Собака» является, кажется, единственным чисто сказовым произведением Тургенева; во всех других его новеллах, которые ведутся от имени специального рассказчика (скажем, в «Первой любви»), речь этого рассказчика является либо дублетом, либо вариантом речи самого Тургенева, т. е. не есть чужая речь в настоящем смысле этого слова (4). Между тем в «Собаке» рассказчик (Порфирий Капитоныч) – мелкий помещик Козельского уезда, провинциал, фигура бытовая; таких у Тургенева десятки в романах и новеллах, но всегда в роли эпизодических героев, в персонале арьерсцены; бытовая фигура, ведущая рассказ, у Тургенева, кроме «Собаки», не встречается, кажется, ни разу (зато является неизбежной принадлежностью новеллистики Лескова). Примеры речи Порфирия Капитоныча: «огород, как водится, прудишко с карасишками, – ну, и флигелек для собственного грешного тела... Дело холостое... У соседа в картишки перекинул – но притом, прошу заметить, ни в одном, как говорится, глазу...», – типическая чужая речь Лескова. Насколько исключителен этот случай у Тургенева, видно из совершенно правильных замечаний М. М. Бахтина: «вводя рассказчика, Тургенев в большинстве случаев вовсе не стилизует чужой индивидуальной и социальной манеры рассказывания... Преломлять свои интонации в чужом слове Тургенев не любил и не умел. Двуголосое слово ему плохо удавалось... Поэтому он избирал рассказчика из своего социального круга» (5), – метод, добавим мы, общий всей русской дворянской новеллистике. Откуда же столь необычный для Тургенева сказовый «демократизм» «Собаки»? Очевидно, из стремления максимально нейтрализовать (художественно) сверхъестественное явление, сплавить его с речевыми и культурно-бытовыми особенностями отсталой провинциальной среды, вообще, дать ему уездную, полуфольклорную, «лесковскую» перспективу. Но полный ответ возможен будет лишь после монографического обследования, еще не проделанного в нашей науке, всего вопроса об отношении творчества Тургенева к новеллистике Даля-Лескова. Пока это не сделано, литературное место «Собаки» не до конца ясно.
По методу вплавления таинственного в сказово-бытовое окружение к «Собаке» близок «Рассказ отца Алексея», но здесь этот метод представлен более бледно. «Отец Алексей говорил очень просто и толково, без всяких семинарских или провинциальных замашек и оборотов речи», – т. е. не так, как Порфирий Капитоныч: к характеристике и полной особности «Собаки» и справедливости вышеприведенного замечания М. М. Бахтина о нелюбви Тургенева к двуголосой речи. Все же рассказчик – провинциал, фигура бытовая («черты этого лица были обыкновенные, деревенского типа» – и вся характеристика в прологе), так что метод, в сущности, тот же, что в «Собаке»: погашение художественной остроты («опасности») таинственного события социально-бытовой мотивировкой и окружением (демократический быт, провинциальность, низкая культурность).
Во избежание недоразумений заметим, что речь у нас идет о нейтрализации исключительно художественной, а не догматической. Мало того, потому именно она так нужна Тургеневу, что «таинственное» у него имеет догматическое (а не фантастическое, как у Гофмана) значение. Фантастическое в художественной нейтрализации не нуждалось бы вовсе! Следовательно, наш глубокий упрек Тургеневу в мировоззрительном, притязательно-догматическом, эмпирико-смысловом и, следовательно, реакционном характере его таинственного вышевысказанными соображениями о методе нейтрализации и сплава не ослабляется, а, напротив, обосновывается.
7
Но это в особенности ясно будет из анализа тех новелл, в которых сверхъестественное явление вплавлено в общую трагико-философскую концепцию жизни,– ибо если что-либо входит элементом в общее понимание жизни, то притязания его на смысловое признание очевидны.
Концепция эта всегда радовала отечественный импрессионизм, дилетантство и декаданс (идеологические иероглифы социальной реакционности) – мы сейчас увидим, что недаром: последний ее смысл есть отказ от исторического объяснения человеческой судьбы, от исторического построения биографии героя, от включения ее в контекст истории. Но с отказом от этого единственно возможного реального включения Тургенев (да в аналогичных случаях не он один) строит иллюзорный авторитет, уже в «Фаусте» 1855 г. названный им «Неведомое» («мы все должны смириться и преклонить головы перед неведомым»), и соответствующую ему иллюзорную директиву отречения («отречение, отречение постоянное – вот тайный смысл жизни, ее разгадка...»; ср. весьма странное переосмысление стиха из гётева «Фауста» в эпиграфе (6)). Итак, «Неведомое» и «отречение», – вместо истории и «исторической продуктивности»!
Состав этого Неведомого определяется у Тургенева различно. В «Фаусте» это отношение живого поколения и умершего («кто скажет, какой таинственной цепью связана судьба человека с судьбой его детей, его потомства...»), в «Призраках» – отчасти связь предсуществования с биографией данной жизни (Эллис, по замыслу Тургенева, любила героя в одну из его прежних жизней: «иногда мне опять казалось, что Эллис женщина, которую я когда-то знал – и я делал страшные усилия, чтобы припомнить, где я ее видел...»), отчасти победа любви над преградой биологической смерти (либо раздельных «планов» жизни), что крайне близко к концепции «Клары Милич» (недаром последние строки «Призраков» намекают на неизбежную и близкую смерть героя: ср. со смертью Аратова после таинственного бракосочетания, поверх биологической преграды); наконец, в «Сне» «неведомое» выражается в наличности парабиологической связи между отцом и сыном. Как ни разнохарактерны эти концепции, все они, как нетрудно заметить, сводятся к признанию парабиологических отношений между людьми, по вертикали (поколения) и по горизонтали (любовь). «Неведомое», пред которым Тургенев приглашает «смириться», есть метабиология!
Внимательно вглядевшись, можно усмотреть во всех сюда относящихся рассказах Тургенева еще одну любопытную черту: агрессивность метабиологического мира. Эллис из другого мира вторгается вампиром в жизнь героя; Клара из-за гробовой черты овладевает тем, кого она любит; Ельцова, в «Фаусте», «ревниво сторожила свою дочь. Она сберегла ее до конца и, при первом неосторожном шаге, унесла ее с собой в могилу», отец, в «Сне», насильственно вторгается в воображение героя, задолго до того, как реально вторгся в его жизнь; в «Собаке», «Рассказе отца Алексея» эти черты сливаются с общебытовым суеверным страхом перед агрессивным, в представлении фольклора, «потусторонним миром»; в «Песни торжествующей любви» Муций вторгается в жизнь Валерии, – хоть не из загробного мира, но вооруженный колдовством (кроме того, аналогия между ситуацией «Песни торжествующей любви» и «Сна» бросается в глаза и не раз отмечалась исследователями). Все эти примеры дают недвусмысленную картину враждебности, в представлении Тургенева, и «опасности» парабиологического мира. Но если он враждебен, то «смирение перед неведомым», которое образует «учение» Тургенева, расшифровывается как страх, самый обычный суеверный страх фольклора перед предполагаемой агрессивностью «потустороннего» мира. «Философия» Тургенева, столь любезная реакционным импрессионистам мысли, есть идеологически и культурно осложненный – реликт.
То же, в более теоретической форме, могло бы быть выражено так: всякое учение (или подобие учения, или концепция, или даже импрессия), ориентированное на понятии «неведомого», философски бессодержательно, ибо по необходимости бессодержательно познавательно: «неведомое» потому так и названо, что о нем нет знания! Живые, содержательные (даже ошибочные) системы мысли всегда были ориентированы на «ведомом», на сумме человеческого знания, а величайшие из них – на том диалектическом единстве знания, которое раскрывается в истории.
8
Несколько разрозненных замечаний об отдельных новеллах, входящих в нашу группу.
Лучше других изучена литературная история «Призраков», но и здесь еще далеко до последнего слова. «Призраки» относятся (как частично и «Клара Милич») к категории «вампирических» новелл («у вас являющееся существо объяснено как упырь», пишет Тургеневу Достоевский 23 декабря 1863 г.50; физиологические подробности производят неприятное впечатление: «я успел почувствовать на губах моих прикосновение того мягкого тупого жала... незлые пиявки так берутся... доктор уверяет, что у меня крови мало, называет мою болезнь греческим именем анэмией...»). Между тем была эпоха, когда «вампирическая» литература свирепствовала в авангарде всей англо-французской «неистовой словесности» (lа litterature frenetique). В 1820-е годы, вслед за «Вампиром» псевдо-Байрона, разлилось наводнение вампирической беллетристики всех видов. Она, правда, скоро отшумела, но несомненные нити тянутся от нее и к Э. По и к позднейшей беллетристике европейской. В каком отношении находятся «Призраки» ко всему этому литературному потоку? Наша литературная наука должна во всей серьезности поставить вопрос о творческих отношениях Тургенева, уже 1850-х и 60-х гг., к Э. По, а наряду с этим к раннему французскому декадентству (Бодлер прочитал Э. По уже в 1846 г.) и английскому прерафаэлитизму (к которому, по-видимому, восходит фигура Эллис). Когда совершился в европейской литературе перелом от вампиризма мужского (каким он был в «неистовой словесности») к женскому (каким он чаще всего является у Э. По и всегда у Тургенева)? Тут нужно компаратистское обследование всего этого процесса, частью которого являются «Призраки».
Что же до пейзажных вставок, то они истощили, как известно, справедливые восторги критики и читателей. 8 основных пейзажных кадров «Призраков» (вместе с туманом в «Стук... стук... стук!..», грозами и ночами повестей и романов и пр.) принадлежат к высшему, что есть в мировом пейзажном искусстве. Заметим только, что «Призраки», где пейзажные вставки имеют явный кадровый характер (ср. известные слова Тургенева Половцеву: «сначала я хотел сделать картинную галерею, по которой проходит художник, рассматривая отдельные картины, но выходило сухо. Поэтому я выбрал ту форму, в которой и появились „Призраки"»), дают как бы ключ к пониманию кадрового характера, хоть не столь отчетливого, всех прочих пейзажей Тургенева. В каком отношении этот метод находится к европейской живописи тех лет?
В «Сне» прежде всего поражает его не-русский характер: город – приморский, много матросов, оживленная в июне пристань, явно не русская, судя по описанию в 4-ой главе; о знакомстве с отцом (гл. 5-ая) сказано так: «я узнал, что он мой соотечественник, что он недавно вернулся из Америки...»; затем, баронский титул отца, его наружность («черноволос, нос у него крючком...»), слуга-арап – все это вместе взятое дает новелле, сознательно, иностранный колорит. Случай этот у Тургенева единственный, и он так же поражает, как 2– 3 не-русских новеллы Чехова («Пари», «В море» и вставная новелла в «Рассказе старшего садовника»). Уже это особое положение «Сна» заставляет предположить западные литературные источники. Далее, еще более замечательна неопределенность обстановки: не указана национальность героев, ни имя, ни дата, нет ни одной хронологической и историко-культурной приметы, – тоже единственный у Тургенева случай! Не указана даже страна. Судя по пейзажу и некоторым деталям, романский юго-запад Европы отпадает. Вернее всего вообразить одну из стран германской народности, расположенных по северной кайме Европы, от Фландрии до Швеции. Кстати, сравнение культурно-оголенной новеллы «Сон» со всеми прочими дает очень наглядное и живое представление о всей огромной роли историко-культурной нагрузки в новеллистике Тургенева (7). Как неожиданно звучит у него новелла, освобожденная от обычного сложного и тщательно продуманного аппарата хронологических дат, исторических справок, книг, литературных споров, вообще внешних и внутренних «примет эпохи», представляющих, как мы старались выяснить (8), онегинское наследие в творчестве Тургенева. Даже в ультраоккультной и «вампирической» «Кларе Милич» не только показана дата действия (1878), но и ряд внутренне-хронологических примет непрерывно ее поддерживает (см., например, тонкую иронию в начале 14-ой главы: «... к тому же кухарка пугала ее, сообщая наидостовернейшие известия об исчезновении то того, то другого молодого человека по соседству. Совершенная невинность и благонадежность Яши нисколько не успокаивали старушку...»: намек на массовые аресты среди молодежи, бывшие именно в 1878 году). Оголенность «Сна» получает, таким образом, особое значение; перед нами единственное произведение Тургенева, стоящее целиком вне пушкинской поэтической культуры. Все это приводит к выводу о настоятельной необходимости выяснить литературную историю «Сна», и в первую очередь его западные источники.
9
Есть выражение «издержки революции»: по аналогии с ним скажем: «издержки реакции», точнее: «идеологическая цена реакции». Для общеевропейской реакции 1849-1871 гг. (перешедшей затем непосредственно в новую фазу, разрядом которой был 1914 год) эта цена была очень велика. Европейская культура за реакцию расплатилась новой (второй после 1820-х гг.) реставрацией реликтов. В частности, русской литературе она стоила того реликтового осложнения, которое вводит расщелину оговорки в наше отношение к классикам второй половины XIX века: суеверия теизма у Л. Н. Толстого, суеверия православной догматики у Достоевского, суеверия метабиологической реальности у Тургенева (Платон Каратаев, Зосима, Аратов).
Одно из важных косвенных доказательств эпизодической и предварительной роли капитализма в истории человечества – его неспособность обойтись в организации общества без идеологических реликтов. «Только записные теологи, сказал К. Маркс, могут думать, что в богословских спорах наших дней дело идет о богословии»,– что применимо ко всей без исключения области идеологических реликтов. Но отсюда следует, что освобождение от них человеческой культуры есть задача историко-политическая. Это прекрасно понимали уже якобинцы.
Примечания:
1. См. Пиксанов Н. К. История «Призраков» //Тургенев и его время: Первый сборник под ред. Н. Л. Бродского. М.; Пг., 1923. С. 164– 192.
2. Связь «Клары Милич» 1882 г. с «Леди Лигейей» Э. По была отмечена в нашей научной литературе. Вопрос об отношении к Э. По новелл 60-х и 70-х годов еще не выяснялся исследователями. Думается, что он особенно важен для генеалогии Эллис.
3. О смысле термина, о происхождении и роли этого метода у Тургенева – см. во вступительной статье к предыдущему тому этого издания – «Тургенев-новеллист». В «Стук... стук... стук!..» оркеструющая роль тургеневского пейзажа видна с особой отчетливостью.
4. В понимании сказа как чужой речи прежде всего (а уж во-вторых речи устной) мы расходимся с формалистами и примыкаем к М. М. Бахтину: «сказ есть прежде всего установка на чужую речь, а уж отсюда, как следствие, на устную... Сказ вводится именно ради чужого голоса» (см. его исследование «Проблемы творчества Достоевского». Л., 1929. С. 115).
5. Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Л., 1929. С. 114 и 116.
6. То, что Фауст говорит с горькой иронией, Тургенев цитирует, да еще в эпиграфе, как положительно оцененную директиву.
7. См. нашу вступительную статью к предыдущему тому – «Тургенев-новеллист».
8. Там же. 
|
|


 Главная
Главная Поэтика
Поэтика Обзоры и рецензии
Обзоры и рецензии Словарь
Словарь Фильмография
Фильмография Библиография
Библиография Интернетография
Интернетография Нужные ссылки
Нужные ссылки Мои работы
Мои работы Об авторе
Об авторе