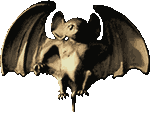| |
Леонид Липавский
 Исследование ужаса Исследование ужаса
1
В ресторане невольно задумаешься о пространстве.
Четыре человека сидели за столиком. Один из них взял яблоко и проткнул его иглой насквозь. Потом он присмотрелся к тому, что получилось, – с любопытством и с восхищением. Он сказал:
– Вот мир, которому нет названия. Я создал его по рассеянности, неожиданная удача. Он обязан мне своим существованием. Но я не могу уловить его цели и смысла. Он лежит ниже исходной границы человеческого языка. Его суть так же трудно определить словами, как пейзаж или пение рожка. Они неизменно привлекают внимание, но кто знает, чем именно, в чем тут дело.
Это один из неосуществившихся миров, таких нет, но они могли бы быть, со своей жизнью, со своими чувствами.
Интересно знать, счастлив он или нет; в чем его страсть; в чем его терпение.
Я знаю одно: он имеет свой вид, свои очертания. В них, очевидно, и состоит его жизнь. Нет сомнений, это изумительный мир! Если хотите, ради него стоит идти на жертвы, ему можно даже молиться. Разве не молились люди разноцветным камням и деревьям?.. Или все это не важно, и за внешним видом, улавливаемым глазом, не кроется ничего, он ничего не значит? Нет, я этому не верю.
Мне кажется, что любое очертание есть внешнее выражение особого, независимого от нас чувства. Мне кажется, геометрия есть осязаемая психология.
Послушайте, мне пришла в голову странная мысль. Чем отличается треугольник от круга? В них заложены разные принципы построения, в каждом из них свой внутренний закон, своя душа. И вот душа круга встречается с душой треугольника, у них завязывается разговор. О чем они могут говорить, что они могут сообщить друг другу?..
Так началась застольная беседа о высоких вещах.
2
Зачем идти так далеко? Не достаточно ли, например, просто глядеть то в одно стеклышко, то в другое: сквозь зеленое стекло все вещи кажутся отлитыми из густого живого раствора; сквозь желтое – нежной долькой апельсина. А если стекла к тому же меняют свой цвет при созревании дня? Я буду жить как мушка, отливающая золотом, между двумя рамами, как помещик, не зная бед, как крохотный паучок среди растянувшейся по цветной беседке паутины. И весь мир будет протекать, пересыпаться сквозь меня, как песок сквозь горлышко песочных часов.
Да, это возможно. К тому же стекла могут менять степень своего преломления. Это будет их возмужание и рост, юность и старение, их жизнь, полная событий.
– Мне понятно все это, – сказал четвертый собеседник. – Тоска по дорогим, преждевременно отбывшим, не дает мне покою. О, это постоянная неиссякающая боль, ничем не возместимая потеря! Мы разлучены пространством и временем, навсегда, наглухо. Но безумное любопытство сжигает меня. Мы хотим быть всеми предметами и существами – температурой, волной, преобразованием. Неистощимая жажда увидеться не покидает меня.
Тогда встает говоривший прежде и поднимает рюмку:
– Я пью за тропическое чувство.
Какое тропическое чувство.
3
Есть особый страх послеполуденных часов, когда яркость, тишина и зной приближаются к пределу, когда Пан играет на дудке, когда день достигает своего полного накала.
В такой день вы идете по лугу или через редкий лес, не думая ни о чем. Беззаботно летают бабочки, муравьи перебегают дорожку, и косым полетом выскакивают кузнечики из-под ног. Цветы поражают вас своим ароматом: как прекрасно, напряженно и свободно они живут! Они как бы отступают перед всеми, из вежливости давая дорогу, и клонятся назад. Всюду безлюдно, и единственный звук, сопровождающий вас, – это звук вашего собственного работающего внутри сердца.
Тепло и блаженно, как в ванне. День стоит в своей высшей, самой счастливой, точке.
В жаркий летний день вы идете по лугу или через редкий лес. Вы идете, не думая ни о чем. Беззаботно летают бабочки, муравьи перебегают дорожку, и косым полетом выпархивают кузнечики из-под носа. День стоит в своей высшей точке.
Тепло и блаженно, как в ванне. Цветы поражают вас своим ароматом. Как прекрасно, напряженно и свободно они живут! Они как бы отступают, давая вам дорогу, и клонятся назад. Всюду безлюдно, и единственный звук, сопровождающий вас, это звук собственного работающего внутри сердца.
Вдруг предчувствие непоправимого несчастья охватывает вас: время готовится остановиться. День наливается для вас свинцом. Каталепсия времени! Мир стоит перед вами как сжатая судорогой мышца, как остолбеневший от напряжения зрачок. Боже мой, какая запустелая неподвижность, какое мертвое цветение кругом! Птица летит в небе, и с ужасом вы замечаете: полет ее неподвижен. Стрекоза схватила мушку и отгрызает ей голову; и обе они, и стрекоза и мушка, совершенно неподвижны. Как же я не замечал до сих пор, что в мире ничего не происходит и не может произойти, он был таким и прежде и будет во веки веков. И даже нет ни сейчас, ни прежде, ни – во веки веков. Только бы не догадаться о самом себе, что и сам окаменевший, тогда все кончено, уже не будет возврата. Неужели нет спасения из околдованного мира, окостеневший зрачок поглотит и вас? С ужасом и замиранием ждете вы освобождающего взрыва. И взрыв разражается.
– Взрыв разражается?
– Да, кто-то зовет вас по имени.
Об этом, впрочем, есть у Гоголя. Древние греки тоже знали это чувство. Они звали его встречей с Паном, паническим ужасом. Это страх полдня.
4
Вода, твердая как камень
Да, вы попали в стоячую воду. Это сплошная вода, которая смыкается над головой, как камень. Это случается там, где нет разделения, нет изменения, нет ряда. Например, переполненный день, где свет, запах, тепло на пределе, стоят как толстые лучи, как рога. Слитный мир без промежутков, без пор, в нем нет разнокачественности и, следовательно, времени, невозможно существовать индивидуальности. Потому что если все одинаково, неизмеримо, то нет отличий, ничего не существует.
Но кто же в последний момент назвал вас по имени? Конечно, вы сами. В смертельном страхе вспомнили вы о последнем делителе, о себе, обеими руками схватили свою душу.
Гордитесь, вы присутствовали при Противоположном Вращении. На ваших глазах мир превращался в то, из чего возник, в свою первоначальную бескачественную основу.
В этот миг вы встретились не только с Паном, но и со своей собственной душой. Какой слабый голос у нее, слабый, но довольно приятный.
Боязнью безындивидуальности объясняется также неприязнь к открытым сплошным пространствам: однообразным водным или снежным пустыням, большим оголенным горам, степи без цветов, синему или белому небу, слишком насыщенному солнцем пейзажу. Величественное всегда сурово и неуютно.
О, особая тоска южных стран, где природа чрезмерно сильна и жизнь удивительно бесстыдна, так человек теряется в ней и готов плакать от отчаяния! Не за нее ли платят двойной оклад отправляющимся служить в колонии, но и это не помогает, они так быстро теряют желание жить, погружаются и гибнут.
Тропическая тоска находит свое выражение в истерии, свойственной южным народам: в припадках пляски или судорожного бега, когда человек бежит не останавливаясь с ножом в руке, – он хочет как бы разрезать, вспороть непрерывность мира, – бежит, убивая все на пути, пока его не убьют самого или изо рта у него не хлынет кровавая пена.
Снежная тоска известна зимовщикам полярных станций. Она вызывает также судорожные пляски и особую болезнь менерик, при которой человек, не выдержав вечной муки, уходит от стоянки напрямик в темноту, в снег, на гибель.
5
Кровь и сон
Меня интересует, кто придумал сказку об уснувшем царстве. Ведь был же человек, который ее придумал, кому впервые пришла в голову эта странная мысль. И очевидно, он попал в точку, если эта сказка производит впечатление на всех, обошла весь мир.
Помните, там даже часы останавливаются, слуга застывает на ходу, протянув ногу вперед, с блюдом в одной руке. И тотчас же из-под земли подымаются деревья, вырастают травы, длинные, как волосы, и точно зеленой паутиной или пряжей застилают все вокруг. Да, там еще чердак со слуховым оконцем, злая старуха за пряжей и спящая красавица: она заснула, потому что укололась, и капелька крови вытекла из ее пальца.
При чем тут укол, какая связь у него с остановкой времени, со сном?
Но сначала о пряже. Говорят, пряжа похожа на судьбу; но еще более она похожа на растение. Как растение, она не имеет центра и бесконечна, неограниченно продолжаема. В ней есть скука, и время, не заполненное ничем, и общая, родовая жизнь, которая ветвится и ветвится неизвестно зачем; когда ее начинаешь вспоминать, не знаешь, была она или нет, она протекла между пальцев, прошла, как бесконечный миг, как сон, вспоминать нечего.
Любопытно, что и до сих пор очень многие люди боятся вида крови, им становится от нее дурно. А что бы, казалось, в этом страшного? Вот она выходит через порез, содержащая жизнь красная влага, вытекает свободно и не спеша и расползается неопределенным, все расширяющимся пятном. Хотя, пожалуй, в этом действительно есть что-то неприятное. Слишком уж просто и легко она покидает свой дом и становится самостоятельной – тепловатой лужей, неизвестно – живой или неживой. Смотрящему на нее это кажется столь противоестественным, что он слабеет, мир становится в его глазах серой мутью, головокружительным томлением. В самом деле, здесь имеется нечто противоестественное и отвратительное, вроде щекотки не извне, а в глубине тела, в самой его внутренности. Медленно выходя из плена, кровь начинает свою, исконно уже чуждую нам, безличную жизнь, такую же, как деревья или трава, – красное растение среди зеленых.
Тем самым разоблачается, что наше тело более чем наполовину растение: все его внутренности – растения.
Но безличная жизнь не имеет времени. В ней нет несовпадений и толчков. И растения тем и отличаются от животного, что для них нет времени: все для них протекает в единый бесконечный миг, как глоток, как звук камертона.
В этом причина страха крови, отвращения к ней, испытываемого многими людьми: боязнь несконцентрированной жизни.
Укол – и порывается интимная связь между стихийной и личной жизнью; кровь устремляется в открывшийся для нее выход, настает ее странное цветение; настает обморок мира, безвременный сон. Вот все уже заткано равномерно, как пряжей или паутиной, иной молчаливой зеленой жизнью. Мир снова превращается в то, что он есть, в растение. Какой у него бурный и неподвижный рост! И так было и будет всегда, во веки веков, пока не придет вдруг создатель новой неравномерности со своим избирающим поцелуем, не возникнет снова иллюзия происходящих событий.
6
Рестораны строят поближе к воде, чтобы открывался широкий кругозор, и, когда их располагают над самой водой, их называют поплавками. Коммерсанты – это практические философы, они понимают, что нужно человеку. А что же нужно человеку? Ему нужно созерцание. На миг приподнять голову, оглянуться кругом и вдохнуть свежий воздух. А потом снова плыть среди бурной пены, пока хватит сил и радость не перейдет в изнеможение, в смерть. Ведь никто никогда не жил ни для себя, ни для других: все жили для одного – для трепета.
Есть нечто торжественное в тех явлениях природы, когда ее стрелка как бы перепрыгивает с одного деления на другое; в смене дня вечером, например, в подъеме луны из-за горизонта. Даже легкомысленный тогда замолкает и задумывается неизвестно о чем, и все глядят на темнеющее море и ждут: вот-вот покажется маленькая лодочка, причалит к сходням, из нее выйдет седобородый хозяин мира и скажет: «Я вижу, гости меня заждались. Простите за невольную заминку. Но теперь настала пора раскрыть вам сюрпризы, которые я для вас приготовил».
Однако это никогда не случается.
За одним из столиков встретились несколько человек и вели разговор на изложенные здесь темы.
Как прекрасна бескорыстная беседа! Никому ни от кого ничего не нужно, и каждый говорит когда и что захочет. Она подобна реке: она не торопится и течет в направлении к морю то медленно, то быстро, иногда прямо, иногда выгибаясь вправо или влево. Две богини стоят за плечами собеседников: богиня свободы и богиня серьезности. Они смотрят на людей благосклонно и с уважением, они с интересом прислушиваются к разговору.
7
Что касается чувств ужаса, отвращения, любви, радости и т.п., то при рассуждении о них делаются всегда следующие три ошибки.
Первая ошибка заключается в их утилитарном толковании. Люди, скажем, боятся змей, потому что они опасны. На возражение, что змей боятся и те, кто не знает, что они опасны, отвечают ссылкой на инстинкт, на передачу страха к определенным вещам по наследству. Все это искусственно и наивно, попросту неумно. Есть множество безвредных вещей, возбуждающих непосредственно страх, и множество опасных и вредных, его не возбуждающих. Да и само явление страха вовсе не так уже полезно для сохранения жизни: страх расслабляет, парализует либо лишает обычной толковости, изматывает все силы в кратчайший срок. Интересно, какую пользу приносит кролику сковывающий его страх под взглядом змеи? Или кенгуру, который при внезапном испуге умирает от разрыва сердца? Все это говорит за то, что страх возник не как полезное приспособление, он первичен, вездесущ и самостоятелен, и только частично, в небольшой доле использован полезно, в целях предосторожности среди бесчисленных опасностей жизни. Такое использование стало возможным потому, что где-то, в самой глубине, ужасность все же связана с тенденциями зловещими и губительными для индивидуальной жизни. Но, как всякая тенденция, это верно только статистически, вообще, а не для каждого случая.
Вторая ошибка связана с первой и заключается в утверждении субъективности чувств. Если вещь страшна, потому что она нам вредна, то ясно, что она страшна не сама по себе, это наше субъективное ощущение ее: кому она не вредна, тому и не страшна. С нашей же точки зрения, ужасность, т. е. свойство порождать в живых существах страх, есть объективное свойство вещи, ее консистенции, очертаний, движения и т.д. Как можно сказать о вещи или веществе, что оно твердое или мягкое, светящееся или темное, так же можно о ней сказать, страшное оно или нет.
Наконец, третья ошибка, связанная с предыдущими, заключается в том, что ужасность рассматривается как печальное свойство, как рубрика, в которую попадают совершенно разнородные вещи. Гром, например, страшен по одной причине, мышь совершенно по другой, Пан по третьей. Страх, таким образом, является именем собирательным. С нашей же точки зрения, страх есть имя собственное. Существует в мире всего один страх, один его принцип, который проявляется в различных вариациях и формах.
Все сказанное о чувстве страха относится и ко всем другим чувствам.
8
Все, что грозит нам ущемлением (боль, неприятности, уничтожение), страшно. Это страх по связи, опосредственный. Но имеются и такие события и вещи, которые страшны сами по себе.
Тому можно привести множество примеров.
Желе.
Ребенок плачет от испуга, увидев колеблющееся на блюде желе. Его испугало подрагивание этой, точно живой, аморфной и вместе с тем упругой массы. Почему? Потому ли, что он счел ее живой? Но множество иных, подчас опасных действительно, живых существ не вызывает в нем страха. Потому ли, что жизненности здесь обманчива? Но если бы желе на самом деле было живым, оно было бы никак не менее страшным.
Пугает здесь, следовательно, не вообще одушевленность (подлинная или имитация), а какая-то как бы незаконная или противоестественная одушевленность. Органической жизни соответствует концентрированность и членораздельность, здесь же расплывчатая, аморфная и вместе с тем упругая, тягучая масса, почти неорганическая жизнь.
Это страх перед вязкой консистенцией, перед коллоидами и эмульсией. Страх перед однородностью, в которой появляются кратковременные сгущения, тяжи, нити напряжения, зыбкой самостоятельности, структуры.
Примерами веществ и сред, рождающих этим страх или отвращение, могут служить: грязь, топь, жир – особенно тягучие жиры, как рыбий или касторовое масло, – слизь, слюна (плевание, харканье), кровь, все продукты желез, в том числе семенная жидкость, вообще протоплазма.
На последнем следует остановиться.
Живая плазма не случайно возбуждает брезгливость. Жизнь всегда в самой основе есть вязкость и муть. Живым веществом является то, о котором нельзя сказать, одно ли это существо или несколько. Сейчас в плазме как будто один узел, а сейчас уже два. Она колеблется между определенностью и неопределенностью, между индивидуальностью и индивидуализацией. В этом ее суть.
На высших ступенях органической жизни это может заслоняться, но оно никогда не исчезает. Из этого следует, во-первых, что во всяком живом существе скрыто нечто омерзительное и, во-вторых, что великое множество живых существ явно омерзительно, возбуждает беспричинный страх.
Что касается первого, то, помимо всего перечисленного, отвратительны и страшны вообще все внутренности: мозг, кишки, легкие, сердце, даже живое мясо, все вообще соки тела.
Что касается второго, то противны на прикосновение все несложные организмы, особенно бесскелетные, как, например, морские. Особенно резко это заметно на паразитах, которые испытали вторичное и, таким образом, чрезмерное упрощение. Клопы и глисты отвратительны своей консистенцией, тем, что они почти жидкие.
С консистенцией может быть связан и характерный цвет, также вызывающий страх: мутно-прозрачный, часто бело-желтый. Такой цвет имеют, например, бельевые вши. Это цвет эмульсии.
9
В основе страха, вызываемого консистенцией и цветом, лежит страх перед разлитой, неконцентрированной жизнью. Такой жизни должны соответствовать и специфические звуки: хлюпанье, глотанье, засасывание, – словом, звуки, вызываемые разрежением и сдавливанием. Но жизнь вообще молчалива, и о ее звуках рассуждать трудно.
Гораздо характернее для нее пространственная форма. И это второй главный страх: первый – консистенции, второй – формы.
Разлитость жизни выражается в ее равномерном растекании во все стороны, т. е. отсутствии предпочтительного направления, т. е. симметрии.
Жизненная симметрия может осуществляться в трех формах: пузырь, отростки во все стороны, ряд (сегменты). Очень часто эти формы сопутствуют друг другу.
Паук, клоп, вошь, осьминог (пузырь + отростки ноги); жаба, лягушка (пузырь), гусеница (пузырь, сегменты, отростки); краб, рак (сегменты, отростки); многоножки, сколопендры (сегменты, отростки); живот, зад, женская грудь, опухоль, нарыв (пузырь).
О пузырчатости. Это основная форма живой консистенции. Но она обычно недостижима из-за неравномерности окружающей среды (земное тяготение, no граничность земли и воздуха, движение вперед). В соответствии со всем этим пузырчатость превращается в то, что можно назвать «обтекаемостью». Но всюду, где живая ткань остается непрактичной, неспециализированной и верной себе, она приближается к форме пузыря. И там, как известно, она наиболее эротична.
Страх перед пузырчатостью не ложен. В ней действительно видна безындивидуальность жизни. Размножение и состоит в том, что в пузырьке появляется перетяжка и от него обособляется новый пузырек.
Об отростках. Мы имеем в виду жгутики, усики, щупальца, ножки, волосистость тела. Страх перед ними не ложен: в них действительно некоторая самостоятельность жизни – оторванная нога осьминога, паука-сенокосца и т.д.
О кольцах. И в них самостоятельность жизни: ганглии в каждом из сегментов. Дождевой червь, разрезанный надвое, расползается в разные стороны, это в высшей степени непристойно.
10
Разительным, хотя и искусственным примером страха, вызываемого безындивидуальной жизнью, является впечатление от опытов по переживанию изолированных органов: палец, растущий в физиологическом растворе, голова собаки, скалящая зубы, и т.п.
Поэтому же так неприятны мысли о том, что у мертвеца еще растут ногти, продолжается жизнь отдельных клеток.
Вообще страх перед мертвецом – это страх перед тем, что он, может быть, все же жив. Что же здесь плохого, что он жив? Он жив не по-нашему, темной жизнью, бродящей еще в его теле, и еще другой жизнью – гниением. И страшно, что эти силы подымут его, он встанет и шагнет как одержимый.
Этим же страшны сомнамбулы, лунатики, идиоты и т.д.
Первый страх – перед консистенцией, второй – перед формой, третий – перед движением.
Обычное наше движение – концентрированное: к одному концу приложена сила, другой конец под ее воздействием пассивно меняет свое положение. Это движение по принципу рычага.
Но глубже и исконнее его колыхательное движение жизни, при котором нет разделения на активные и пассивные элементы, все по очереди равноправны. Такое переливающееся по телу движение называют, в зависимости от того, к чему оно относится, перистальтикой, судорогами, спазмами, перебиранием жгутиков или ног, пульсацией, ползанием разных видов; Но суть его одна: нерасчлененность на периоды (шаги) и отсутствие центра толчка. Этим противны гады. Ведь движение змеи – это движение кишки, да и форма та же.
Как известно, эротические движения – колыхательные.
Такое же непрерывное, переливчатое движение можно наблюдать у винтов и рычагов машины, кото рые то выпячиваются, то снова втягиваются в свое металлическое, политое маслом ложе.
Так льется густая жидкость из бутылки. И так же равномерно и неумолимо, стелется гусеничная передача трактора или танка.
В этом, между прочим, кроется одна из причин, почему танк внушал безотчетный ужас людям на войне.
12
Многоногость неприятна уже сама по себе, но особенно неприятно, когда эти ноги начинают двигаться, животное как бы кишит ногами. Тут соединяются впечатления кольчатости, множества симметричных отростков и колыхательного движения. Быстрота перебирания ножек не позволяет различить отдельных шагов, туловище при этом остается как бы не участвующим в движении, получается какой-то ровный, автоматический ход. Ровен, впрочем, только сам ход, в противоположность, скажем, ходу лошади или человека; остановки же, пускание в ход и перемены направления получаются, благодаря обилию ног, наоборот, необычайно резкими, судорожными, мгновенными. Получается дергающийся бег с внезапными паузами и зигзагами; такой, например, у крабов.
Вот этот-то подрагивающий бег более неприятен.
Как это ни странно, но этот судорожный характер бега присущ и некоторым четвероногим, именно мышам и крысам. Мышь бежит как заводная. И боятся именно бегущей, мечущейся мыши или крысы. Достаточно вообразить, что у мыши иные ноги, что она ходит как другие, более крупные животные, – и все, что есть в ней неприятного, пропадает.
В чем тут дело, почему такой характер движений присущ именно мышам и крысам, я не знаю.
13
В человеческом теле эротично то, что страшно. Страшна же некоторая самостоятельность жизни тканей и частей тела; женские ноги, скажем, не только средство для передвижения, но и самоцель, бесстыдно живут для самих себя. В ногах девочки этого нет. И именно потому в них нет и завлекательности.
Есть нечто притягивающее и вместе отвратительное в припухлости и гладкости тела, в его податливости и упругости.
Чем неспециализированнее часть тела, чем менее походит она на рабочий механизм, тем сильнее чувствуется ее собственная жизнь.
Поэтому женское тело страшнее мужского; ноги страшнее рук, особенно это видно на пальцах ног.
14
Жизнь предстает нам в виде следующей картины.
Полужидкая неорганическая масса, в которой происходит брожение, намечаются и исчезают натяжения, узлы сил. Она вздымается пузырями, которые, приспосабливаясь, меняют свою форму, вытягиваются, расщепляются на множество шевелящихся беспорядочно нитей, на целые цепочки пузырей. Все они растут, перетягиваются, отрываются, и эти оторванные части продолжают как ни в чем не бывало свои движения и вновь вытягиваются и растут.
15
В основе ужаса лежит омерзение. Омерзение же не вызвано ничем практически важным, оно эстетическое. Таким образом, всякий ужас – эстетический, и, по сути, он всегда один: ужас перед тем, что индивидуальный ритм всегда фальшив, ибо он только на поверхности, а под ним, заглушая и сминая его, безличная стихийная жизнь. Это подобно тому, как если бы мы разговаривали с нежно любимым другом, вспоминали то, что нам ближе и важнее всего, и вдруг сквозь черты его лица выступило бы другое, чуждое, по-обезьяньи свирепое и хитрое лицо идиота. Мы обманулись: он не тот, за кого мы его принимали. С этим невозможно столковаться просто потому, что он даже не понимает слов, он весь устроен не по-нашему.
Он не тот, а оборотень.
И всякий страх есть страх перед оборотнем.
16
Рой страхов вьется надо мною, как мухи над падалью, не дает мне покою. Среди них я узнаю те, что давно знакомы: страх темноты, и тесноты, и пустоты.
Страх темноты. Когда человек идет ночью по лесу, этот страх понятен. Но даже ребенок сознает, что темноты в комнате нечего бояться. Между тем боится.
Приглядываясь к этому страху, я замечаю в нем: тоску изоляции или одиночества; ожидание неизвестных угроз; тоску однообразного фона.
Из них последняя мне ясна. Разве не говорил я о ней, рассказывая о страхе послеполуденных часов? Однообразие – оно уничтожает время, события, индивидуальность. Достаточно длительного гудка сирены, чтобы мы уже почувствовали, как весь мир отходит на задний план вместе со всеми нашими делами, прикосновение небытия.
Ту же тоску вызывает темнота, снег или туман. Человек очутился в тумане среди озера. Кругом все одно и то же: белизна. И невольно возникает сомнение не только в том, существует ли мир, но существовал ли он вообще когда-нибудь.
Что-то есть в этом полном окружении, что плотно охватывает, останавливает часы, проникает в самые кости, останавливает дыхание и биение сердца.
Есть в чувстве изоляции особая тоска полного и плотного охвата, погасания надежд, как мы это хорошо понимаем.
Возможно, что это именно вызывает абсолютную неподвижную покорность животных при вызывании каталепсии прикосновением или поглаживанием.
В этой изоляции особенно чувствуется потребность в человеческом лице, голосе, в крайнем случае, хоть не человека, а просто живого существа.
Так дети в темноте просят: «Посиди со мной!»
Почему мы так плохо переносим одиночество? Отчего любые удовольствия и подвиги становятся пустыми и безвкусными, если их не с кем разделить, о них никто не узнает? Даже такой тупой человек, как Робинзон Крузо, и то тяготился одиночеством.
Не странно ли, что значение события, наше собственное значение, приобретает силу для нас только тогда, когда оно отразится в чужих глазах, по крайней мере, есть хотя бы возможность этого.
Так два зеркала, поставленные друг против друга, создают ощущение разнообразной бесконечности. А интересно только то, за чем чувствуется неопределенное продолжение, бесконечность...
Так из чего же проистекает боязнь одиночества?
В тумане, в темноте всем существом ощущается ответ на этот вопрос. Другой человек разрывает одним своим присутствием плотный чуждый охват, смертельное однообразие.
В конце концов, индивидуальность – это самое крупное событие, наверное, других событий и не бывает, не может быть. А если появляется событие, воскресает время и с ним все остальное, наша маленькая жизнь.
В конце концов, чувства – единственно достоверное в мире, ничего другого в нем, наверное, и нет. Но безындивидуальные чувства нам так чужды, что ими мы жить не можем.
Следовательно, событие для нас то, чему можно сочувствовать: соседняя жизнь.
Наиболее остро ощущается соседняя жизнь в телесном сочетании. В этом была суровость монастыря: лишение телесного сочетания и всего, связанного с ним.
Если же отрезают вообще от всякой соседней жизни, это считается тягчайшим наказанием: одиночное заключение.
Если же присоединяют к этому еще однообразие темноты, становится еще хуже: карцер. Потому что исчезают даже намеки на индивидуальную жизнь – вещи. Настает полный охват...
Но еще я говорил, что в темноте или тумане возникает ожидание неизвестных опасностей. И это тоже нужно объяснить.
Это то чувство, когда в детстве боялся высунуть голову из-под одеяла, потому что окажется, что рядом стоит грабитель, или привидение, или кто-то еще совсем чужой. И боялся не столько его, сколько того страха, который тогда нахлынет и которого не вынести.
Это чувство, говорил я, бывает и тогда, когда остаешься один на один с мертвым телом, даже при свете. И тут тоже так хочется еще кого-нибудь, живой души.
И тут и там причина одна: страх перед не нашей, безличной жизнью. Сама темнота кажется живой. И если подумать, это уж не так нелепо. Что такое темнота? Это среда вокруг нас, которую мы днем видим расчлененной по практическим признакам на различные предметы разных цветов, а ночью – сплошной и черной. Она существует. А кто мне скажет, что значит существует, если это не значит живет?
Следовательно, страх темноты – это тот же страх перед оборотнем.
17
Страх пустоты, иначе страх падения.
Человек, бросающийся с парашютной вышки, знает точно, что он не разобьется, никакой опасности ему не грозит. И все же ему страшно.
Если тут можно сослаться на воображение, уже совершенно ясно, что страх перед большими пустотами, перед пропастью не имеет никакого основания.
Страх этот сопровождается головокружением.
Человеку, никогда не испытавшему головокружения, было бы очень трудно объяснить, что это такое. Ибо никакого кружения предметов на самом деле не видно, скорее, есть уплывание. Но и уплывания, собственно говоря, нет, ибо ничто своего места не меняет.
Любопытно, что на это, кажется, никогда не обращали внимания.
Поясним примером. Человек на карусели или «чертовом колесе» видит действительно кружение мира вокруг него, поочередное прохождение предметов перед его глазами. Но это не головокружение, нужно еще что-то иное. И это иное совсем не требует кружения мира: оно может настать и на карусели, и после нее, и совсем без нее, скажем, при опьянении или при дурноте.
Я хочу сказать, что кружение есть движение, а всякое движение имеет направление и состоит в изменении местоположения.
Между тем, при головокружении может быть ощущение движения без ощущения его направления.
«Все завертелось перед ним», – спросите его, в какую сторону завертелось, и окажется, что он на это ответить не может. Стены плывут перед глазами пьяного, но нет точного направления их проплывания. Падающему в обморок кажется, что он летит неизвестно куда, вверх или вниз.
Главное же, нет изменения местоположения, поочередного прохождения предметов перед глазами. Если смотришь на печь, то, как бы сильно ни кружилась голова, будешь все время видеть все ту же печь, а не сначала печь, потом стену, дверь, окно и т.д.
Короче говоря: при головокружении имеется ощущение какого-то особого, ложного, «неподвижного движения». К этому основному ощущению иногда присоединяются обычные ощущения движения (направление, смена предметов из-за непроизвольных движений глаз и т.п.), иногда же нет.
Ощущение ложного движения возникает, я полагаю, таким образом: при движении предмета всегда происходит смазывание его очертаний – от незаметного до такого, когда предмет превращается в мутную серую полосу. Это смазывание очертаний предмета происходит оттого, что мы не успеваем фиксировать его точно, крепко держать его глазами.
Головокружение и состоит в ослаблении, колебании фиксации, смазывании очертаний, которое и создает ощущение движения, хотя самого характерного и необходимого для ощущения движения налицо нет, – «неподвижное движение». Почти то же ощущение можно получить, глядя на отражение в текучей воде: тут тоже смазывание очертаний без перемещения их.
Но зрительная фиксация есть в последнем счете мускульная, фиксация воображаемым ощупыванием, держанием в руках. Нарушение зрительной фиксации есть следствие нарушения всей мускульной фиксации.
Поэтому головокружение чувствуется и при закрытых глазах. Наше пролонгированное во все стороны тело, наши воображаемые, проецированные руки начинают как бы дрожать, слабеют и уже не могут крепко держать предметы; мир выскальзывает из них.
Мир был зажат в кулак, но пальцы обессилели, и мир, прежде сжатый в твердый комок, пополз, потек, стал растекаться и терять определенность.
Потеря предметами стабильности, ощущение их зыбкости, растекания и есть головокружение.
<Нач. 1930-х> 
|
|


 Главная
Главная Поэтика
Поэтика Обзоры и рецензии
Обзоры и рецензии Словарь
Словарь Фильмография
Фильмография Библиография
Библиография Интернетография
Интернетография Нужные ссылки
Нужные ссылки Мои работы
Мои работы Об авторе
Об авторе