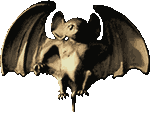| |
 ЭЖЕН ИОНЕСКО. НОСОРОГ. ЭЖЕН ИОНЕСКО. НОСОРОГ.
Пьесы и рассказы. М., «Текст», 1991.
Начиналось с того, что сорокалетний Ионеско зазывал публику на представление своих первых пьес и переругивался с очередью перед соседней киношкой, настойчиво объясняя: «Безумцы, зачем смотреть дурацкие прыгающие картинки на целлулоидной ленте – скачущих ковбоев, глупые мелодрамы, костюмные постановки, когда рядом, в нашем театре, живые актеры покажут вам нечто...» До того, что покажут, разговор обычно не доходил, ибо очередь разражалась проклятиями, насмешками и бранью, да и захоти услышать они, усталые, затурканные обыватели, в чем суть расхваливаемых столь горячо пьес, – смог ли бы автор объяснить? Чем бы завлек он этих людей, желающих хоть чуть отдохнуть от обыденной жизни? И спектакли давались для двух зрителей – драматурга и его жены – и смахивали на бесконечную репетицию перед все откладывающейся премьерой.
Но что-то переменилось – и спектакли идут при полных залах, пьесы ставятся вместе с мольеровc кими в «Комеди Франсез», а былой авангардист пожиз ненно причислен к лику бессмертных, принят другими академиками, как равный. И в далекой, мифической России выпускают второй по счету сборник, снабдив красивой надписью: «Издание осуществлено при содействии Министерства иностранных дел Французской Республики и при поддержке Отдела культуры, науки и техники Посольства Французской Республики в СССР».
И прочитавши это, и восхитившись, удивляешься, как быстро авангард становится классикой (если остается в живых): рассказы и пьесы, собранные в книге, сочинены между пятидесятым и шестьдесят вторым, может быть, шесть десят третьим годами. А Ионеско, по его собственному заявлению, давно забросил литературу и занялся на старости лет живописью. Никого не воспитали его сочинения разочарование ли для французского литератора (а русский бы давно запил, или повесился, или написал «абличительный пашквиль», критикуя мир в себе и мир вне себя). По Ионеско, мир не в себе, дела обстоят слишком плохо, и, утешаясь, маэстро стоит у мольберта и ждет апокалипсиса. А его произведения продолжают существовать.
Вероятно, позиция абсурдистского академика и рождена тем, что возможные ситуации проиграны, а выход так и не найден. Точки расставлены с избытком, вообще – всем все известно, как в рассказе «Фотография полковника»: убийца совершает преступление за преступлением, место и время его появления установлены, есть список примет, а ритуал повторяется – убийца показывает фотографию и, когда жертва заглядится, толкает ее в пруд. Но кто откажется взглянуть на фотографию «полковника в парадной форме – усатого полковника с приятным, даже несколько трогательным лицом»?
Когда-то Ионеско признался, что изображает трагедию языка, глухоту, разобщенность. В постнаучном, постиндустриальном, постинформационном обществе взаимоисключающие явления сосуществуют, будто в имагинативном, чудесно измысленном мире древнегреческих мифов, – рождение и смерть могут быть одновременны, возникло общество новых мифов. И сочиняется рассказ «Орифламма»: мертвец лежит в квартире десятилетиями, разлагается, но растет, занимает больше и больше места, уже выпирает дверь, уже сокрушает стенку, бо рода мертвеца седеет, а ногти приходится ему регулярно подстригать. К мертвецу притерпелись, притерпеться можно ко всему, даже если люди превращаются в носорогов. Глобальные законы скрыты, а частные пестры, потому незначимы. Сумятица жизни переходит и на литературу: пьесы снабжены пространными ремарками, а рассказы моделируют те ситуации, которые позже перейдут в пьесы, – так всегда у Ионеско.
Но воздадим запоздалое должное французскому румыну, пишущему о всемировой смуте, – используя один и тот же прием, он умудрился не стать однообразным, вырвался из замкнутой бесконечности, прервав ее в самом начале; ведь отсутствующая концовка обессмысливает прочее (жизнь строят совпадения и различия, много-много различий, порождающих множественностью своей совпадения, и совпадения, от которых хочется и следует убегать в деструктивность).
Люди живут, умирают и все никак не могут умереть в мире, где «Дюпон одет, как Дюран, Дюран одет, как Дюпон, Мартен одет точно так же», в мире, где начинается благостью, а кончается атомным взрывом. Как это знакомо, еще в «Старосветских помещиках» говорится: «По странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события, и, наоборот, – великие предприятия заканчивались ничтожными следствиями».
Из временного отдаления видно, как неожиданно много позаимствовал Ионеско у Гоголя: «Контора какого-нибудь учреждения или частного предприя тия» – это ведь «в одном департаменте». А персонажи «Этюда для четверых», словно Бобчинский и Добчинский, безуспешно спорят на вечную тему – о том, кто первый из них сказал «э». Книга же заканчивается будто воплем безымянного, безродного, беззащитного Поприщина, не узнавшего ничего или познавшего все, парлекающего на французской мове с ощутительным румынским акцентом: «...надежда покинула меня; что могут пули, что может моя жалкая сила против холодной ненависти, упрямство – против бесконечной энергии, этой абсолютной жестокости, не подчиняющейся разуму, не знающей пощады?»
Абсурдизм? В чем он? Только лишь в том, что западные читатели и зрители слышат нечто, прорывающееся сквозь их родную речь, рыдание чье-то (а то струна звенит в тумане), а мы угадываем нас, узнаем самих себя, в переводе с чужого языка? В чем разгадка? Может быть, абсурд – желание строить Вавилонскую башню, а абсурдизм – жить на ее развалинах? 
|
|


 Главная
Главная Поэтика
Поэтика Обзоры и рецензии
Обзоры и рецензии Словарь
Словарь Фильмография
Фильмография Библиография
Библиография Интернетография
Интернетография Нужные ссылки
Нужные ссылки Мои работы
Мои работы Об авторе
Об авторе