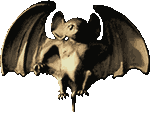| |
 ПРИМЕЧАНИЯ К РАССКАЗУ М. Р. Джеймса «ПОДБРОШЕННЫЕ РУНЫ» ПРИМЕЧАНИЯ К РАССКАЗУ М. Р. Джеймса «ПОДБРОШЕННЫЕ РУНЫ»
К рассказу "Подброшенные руны" ( ) )
Подброшенные руны . – Перевести название этой новеллы достаточно непросто, ибо оно многослойно, и автор заведомо учитывал подобную неоднозначность. Как указывает академический источник, английское выражение « to cast lots » означает «бросать жребий» (Англо-русский словарь 1993), «to cast horoscope» – «составить гороскоп», а «to cast» – «бросать, швырять».
Следовательно, мы имеем сразу несколько различных значений. Автор подразумевает: странные рисованные знаки, напоминающие руны, не только подбросили – то есть «подкинули тайно», «подсунули», – здесь присутствует и момент некой гадательности относительно судьбы героя новеллы, хотя в принятом нами переводе значение это присутствует латентно (глагол «подбросить» в этом смысле куда более емок, чем прилагательное, от него образованное, ибо, кроме прочего, включает такие значения, как «бросить вверх или подо что-нибудь», «дать, предоставить дополнительно», «подложить» (Ожегов 1990, с. 531).
Между тем, смысловой слой, отсылающий к процессу гадания, очень важен. Вот что говорит о процессе игры в кости, напрямую связанном с познанием будущего, О. М. Фрейденберг: «Игра в кости была священным обрядом при жертвоприношении и ритуально увязывалась с культом огня, производительности и смерти. Отчего это было именно так? – Ответ кажется ясен, если сказать главное: кости явились позднейшей заменой бобов и зерен, а игра – гаданья. Самое происхожденье бобового гаданья выявлено настолько, что можно о нем говорить прямо. В загадываньи и разгадываньи ставился вопрос о жизни и смерти, и ответ считался делом божества; гаданье, прежде чем стать игрой, было священным действом, равносильным приходу бога и объявлению его воли. Но еще до этого, до существования организованного пантеона богов, в обряде гаданья происходила реновация тех, кто гадал: “да” – приносило жизнь, “нет” – смерть. Естественно, что обрядовое гаданье осталось принадлежностью всех праздников, связанных с изменением, сменой времен года, рождением и смертью солнц: под новый год, под рождество гадали впоследствии по наследству, полученному от языческих празднеств, и в это же время традиционно играли в кости. В одну линию с обрядовым гаданьем следует поставить и обычай задавать загадки: мы знаем из фольклора, что словесное загадыванье и отгадыванье приносило жизнь или смерть. Загадка в сказках задается сверхъестественными существами, и тот, кто не может ответить на нее, умирает, тот, кто отвечает, получает спасение и победу. Загадчик, загадка которого разгадана, погибает: Сфинкс может существовать и вредить людям, пока его не победит в разгадке Эдип. Таким образом, носитель загадки – и есть та смерть, от которой спасается разгадчик. В загадываньи и разгадываньи лежит, следовательно, момент борьбы, поединка: он может быть дан в словесной форме, но параллельно и в действенной» (Фрейденберг 1995, с. 164) (об азартных играх, выполняющих некую гадательную функцию, с примерами из художественной литературы, подробно сказано в монографии, посвященной творчеству Ф. Рабле (Бахтин 1990, с. 251–263)).
Следует также помнить, что игральные кости считались «посвященными Гермесу» (Фрейденберг 1995, с. 167), богу, напрямую связанному с тайными знаниями и алхимическими штудиями. И, кроме того, в игре в кости, то бишь, по происхождению и семантике процессу гадательному, есть противопоставление двух традиций – магической и христианской – которые сосуществуют и в алхимии: «в христианские времена изобретение этой игры приписывается черту, и на ней видят черты адского происхождения» (Фрейденберг 1995, с. 168).
Немаловажен и смысловой аспект, связанный с процессом «подбрасывания», – так подбрасывают монеты при гадании или палочки при истолковании текстов И Цзин. В этой связи стоит вспомнить: когда при Мао Цзэдуне встал вопрос о том, что сделать, дабы отчасти разрядить напряжение в китайском обществе, обеспечить ли граждан дополнительной порцией риса или разрешить гадание по «И Цзин», запрещенное до того времени вместе с другими формами предсказаний, выбор был сделан в пользу «И Цзин», ибо, по мнению советников, самосознание важнее физического самочувствия, а в самосознании китайца разного рода предсказания будущего играют исключительно важную роль. Справедливости ради следует добавить, что через несколько лет гадание вновь запретили (Фон Франц 1998, с. 9).
Гадательность, выбор, не зависящий от воли человека, отразились и в таких понятиях, вошедших в русский разговорный язык, как «на кого бог пошлет», «на шарап». Не истолковывая преждевременно развязку новеллы, приведем пример, почерпнутый из личной беседы с Е. Леммингом. В шестидесятые годы среди шуток, распространенных у мальчишек от шести до девяти лет, была и такая – подкидывали какой-нибудь тяжелый предмет, например, увесистую деревяшку, крича при этом «на кого бог пошлет». Случалось, что, не услышав сигнала, кто-нибудь не успевал среагировать, а то и просто не понимал, что происходит (тут важен был и момент внезапности, неожиданности), и тяжелый предмет падал ему на голову.
Сам процесс гадательности и связанной с ним неопределенности, К. Г. Юнг характеризует в статье «Предисловие к “И Цзин”» следующим образом: «Когда речь идет о несколько более, чем обычно, сложных обстоятельствах практической жизни, мы улаживаем эти ситуации, руководствуясь воззрениями, чувствами, аффектами, интуициями, убеждениями и т. д., “научное” доказательство оправданности или даже пригодности которых попросту невозможно, и тем не менее все заинтересованные лица могут быть довольны тем, как решен вопрос» (Юнг 1994б, с. 227).
…живет в Лаффордском Аббатстве, в Уорикшире… – Упоминаемое здесь графство Уорикшир, центром которого является город Уорик, расположено в центральной Англии. Места эти интересны, по меньшей мере, в двух отношениях. Здесь осталось множество следов римского пребывания: аббатства Меревейл и Стоунло, развалины крепости в Кенилворте, при этом Уорикская крепость сохранилась в основном неповрежденной. Существующие сами по себе в качестве исторических или географических реалий (например, пологая местность Уорикшира на юге упирается в Котсвольдские горы, есть тут и река Эйвон, растет древний густой Арденский лес), объекты эти при определенной степени абстрагирования могут рассматриваться как константы словаря европейской культуры конца XIX – начала XX вв. Тогда, выступая и по отдельности – горы, лес, римские развалины, – и в сочетаниях, они генерируют символические смыслы, являются мотивами совершенно определенной группы текстов (среди авторов, постоянно манипулирующих подобными константами, достаточно назвать А. Макена). Комментатор не намерен здесь рассматривать столь сложный вопрос: когда работа по составлению словаря констант и мотивов, материалы для которого уже собраны, подойдет к концу, можно будет взглянуть на проблему во всей ее полноте.
Второй, не менее важный момент, связанный с упоминанием Уорикшира, – чисто литературные ассоциации; в частности, в Стратфорде-на-Эйвоне родился В. Шекспир, аллюзии из произведений которого занимают важное место в прозе М. Р. Джеймса.
Что касается упоминания Лаффордского аббатства, то примерно десятилетие спустя после написания «Подброшенных рун» А. Кроули организовал для своих последователей аббатство, функционирующее по принципу Телемского, описанного в романе Ф. Рабле. Это можно рассматривать как знак, что А. Кроули, по всей вероятности, признал себя в качестве прототипа одного из героев новеллы и отреагировал со свойственным ему своеобразным чувством юмора (см. также далее).
« ...он выходил из ворот Британского Музея». – Британский музей, с которым связано несколько драматических эпизодов новеллы, – один из самых крупных музеев в мире, в состав которого входит и Британская библиотека. Он был основан Парламентским Актом в 1753 г. Общее управление и надзор за деятельностью музея осуществляют 25 доверенных лиц (Trustees). Следует подчеркнуть, что к концу жизни М. Р. Джеймс входил в число этих двадцати пяти доверенных лиц, хотя в то время, когда сочинялась новелла, он был лишь постоянным посетителем этого замечательного культурного заведения. Характерно и то, что в грандиозном собрании Британского музея нет живописных работ, однако существует отдел графики (Власов 2000, с. 802), и это стоит учесть, когда пойдет речь о гравюре Т. Бьюика (см. ниже).
«…просто наш деревенский сосед…» – Французский историк и культуролог Жан Делюмо очень точно начертил схему, по которой ближайшие сожители и соседи постепенно превратились в наиболее опасных и – главное – неизбежно опасных носителей зла: «В мире, который мы потеряли, сосед был известен, и даже слишком. Он давил на вас. Люди, ограниченные тесными рамками горизонта, постоянно испытывали неутолимую страсть, взаимную ненависть, все время подпитываемые претензии. <…> В современном мире доминирующим чувством в отношениях между соседями является безразличие, тогда как раньше этим чувством было недоверие, то есть страх. Поэтому следовало быть начеку по отношению к соседу. <…> Доносы на колдунов и ведьм часто писали их соседи, хорошо знавшие или полагающие, что хорошо знают подозреваемых в колдовстве. Они ежедневно следили за сомнительным поведением тех, кто: редко ходил в церковь, принимая причастие, делал странные движения, проходя мимо, мог сглазить, толкнув или обдав отравленным дыханием, а также посмотрев дурным глазом. Безусловно, здесь налицо фактор близости, являющийся источником ненависти» (Делюмо 1994, с. 24–25). Далее автор уточняет, что в Америке с ее огромными пространствами подобной проблемы не существовало (Делюмо 1994, с. 27). Между тем, для Европы такая схема была всеобщей, имела как бы «обратную силу», а потому, в пределе, все становились опасны для всех. Раз приобретенная, общая подозрительность, «соседская настороженность» сделались частью менталитета, утвердились в европейской культуре. Сквозь призму такой параноидальной настороженности можно воспринимать и данные Карсвеллу за дружеской беседой аттестации, и в целом сюжет новеллы, что отнюдь не противоречит авторскому замыслу, а вписывается в него одним из возможных вариантов (о принципиальной множественности интерпретаций происходящего см. в «Заключении»).
« ...написал священнику своего прихода ~ и предложил показать школьникам несколько картинок при помощи волшебного фонаря» . – Изобретенный в XVII в. волшебный фонарь, или «латерна магика», практически не отличался от современного диапроектора. Луч света в нем сначала проходил через концентрирующую линзу, затем, проникая через прозрачную пленку с нанесенным на нее позитивным рисунком, попадал в объектив, и уже пройдя объектив, попадал на экран. Любопытно, что «центральным сюжетом для “волшебных фонарей”, – как отмечают историки культуры, – сделались привидения, духи и черти…» (Лотман, Цивьян 1994, с. 36–37). Не менее любопытно и то, что постепенно аудитория, для которой устраивались представления волшебного фонаря, изменилась и, как писал в конце XVIII века аббат Нолле: «Слишком большая популярность волшебного фонаря сделала его посмешищем в глазах многих людей. Теперь его показывают на улицах и развлекают им детей и народ» (цит. по: Садуль 1958, с. 136). Разновидность волшебного фонаря – «солнечный микроскоп» – позволял представлять предметы в цвете и даже в движении, а потому использовался в научно-просветительских целях, в частности, его пропагандировал Жан-Поль Марат (Садуль 1958, с. 137). А физик и фокусник Робертсон устраивал при помощи волшебного фонаря целые спектакли, темы которых были навеяны «черными романами»: «Робертсон сначала давал представления на улице Прованс, потом около площади Вандом в старом капуцинском монастыре. Зрительным залом служила часовня, куда шли по таинственным коридорам и монастырским развалинам, пока не оказывались перед дверью, покрытой иероглифами, которая вела в мрачное помещение, обитое черным и слабо освещенное надгробной лампадой. Тогда появлялся Робертсон и принимался за вызывание призраков» (Садуль 1958, с. 137). Длившиеся до Директории выступления впоследствии были перенесены за границу (Садуль 1958, с. 138).
Немаловажна и такая деталь: «Репертуар волшебных фонарей накануне изобретения движущейся фотографии был весьма сложен и разнообразен. Наряду с многочисленными общеобразовательными сериями, предметными уроками, историческими картинами показывали шуточные представления, в большинстве своем навеянные сказками или собранием детских стишков “Нарсери Раймз”» (Садуль 1958, с. 139–140). А ведь сюжеты, показанные мистером Карсвеллом, больше всего напоминают именно детские стишки.
« ...как уверял мистер Фаррер ...» – Возможно, этот герой, так же, как и другой персонаж, упомянутый далее, имеет литературное происхождение. Английская фамилия Фаррер (Farrer) и по звучанию, и по написанию схожа с фамилией, которую взял себе в качестве составляющей псевдонима французский прозаик Фредерик Шарль Эдуар Баргон, широко прославившийся, как Клод Фаррер (Claude Farrere), и пик писательской славы которого пришелся на 10-е гг. XX в. Много читавший беллетристику М. Р. Джеймс мог каким-то образом сопоставлять, разумеется, не без иронии, робкого приходского священника, испугавшегося обыкновенных картинок, и бравого военного моряка, два десятилетия плававшего на различных кораблях, а затем описавшего свои впечатления в «колониальных романах», полных экзотики, жестокостей, неожиданных сюжетных поворотов и отличавшихся захватывающей интригой. Впрочем, вопрос о подобном сопоставлении остается до времени открытым, не исключено, что автор новеллы подразумевал и вполне определенный роман Клода Фаррера, где имеется схожий эпизод. Проблема требует специального изучения.
«Все показанные им картинки… были выполнены очень искусно, с абсолютным правдоподобием; где он их приобрел или каким образом изготовил, священник не мог даже вообразить» . – По всей вероятности, тут слышатся отзвуки борьбы вокруг фотографии и живописи, начавшейся уже с того момента, как Даггер сделал свое изобретение (см. об этом подробно: Ямпольский 1993а). Проблема сводилась не к противопоставлению двух различных техник воспроизведения окружающего мира, а к тому, «пристрастная» ли живопись с ее углубленным взглядом в суть предмета или «беспристрастная» фотография, фиксирующая недоступное глазу живописца, наиболее точно воспроизводят этот самый окружающий мир. Под таким углом и прочитывается высказывание мистера Фаррера: абсолютное правдоподобие картинок – причем запечатлены на них легко узнаваемые места – наводит на мысль – картинки ли это или и впрямь нечто вроде фотографий. В данном случае, и сюжет с Красной шапочкой, и сюжет с подпрыгивающей тварью в белом, упоминаемый далее, вполне вероятно, не выдумка, а запечатленные с технической точностью подлинные происшествия.
« ...показал серию о том, как маленький мальчик вечером пробирается через его собственный парк… ~ …за бедным мальчиком кралась… ужасная подскакивающая тварь в белом, ~ в конце концов, она его настигла и то ли разорвала на куски, то ли уничтожила каким-то иным способом» . – В обширной антологии современного черного юмора, где сделана также попытка осмыслить некоторые характерные для этого жанра мотивы, сюжеты и художественные средства, хотя и идет речь о причинах возникновения такого рода произведений – «садистских» стишков, анекдотов и т. п., – почти ни словом не упоминается о генезисе столь важного явления культуры (Белянин, Бутенко 1996). Мы уже говорили о противоречии между утверждением составителей антологии, будто «прямых аналогов произведениям черного юмора в истории литературы и фольклора, видимо, нет», и упоминанием затем таких авторов, как Э. Лир, братья Гримм, Г. Грем, а также сборника «Стишки Матушки Гусыни» (Краснова 2002б).
Но значительное место здесь принадлежит и чисто поучительной, дидактической литературе, с одной стороны, как бы пробуждавшей дух противоречия, провоцировавшей бунт, с другой стороны, дававшей иногда едва ли не самые яркие образцы «черного юмора», по крайней мере, оказавшей влияние на формирующийся жанр. В одном из пассажей сказки об Алисе автор делает следующее уточнение: «Видишь ли, она начиталась всяких прелестных историй о том, как дети сгорали живьем или попадали на съедение диким зверям, – и все эти неприятности происходили с ними потому, что они не желали соблюдать простейших правил, которым обучали их друзья: если слишком долго держать в руках раскаленную докрасна кочергу, в конце концов обожжешься; если поглубже полоснуть по пальцу ножом, из пальца обычно идет кровь; если разом осушить пузырек с пометкой “Яд!”, рано или поздно почти наверняка почувствуешь недомогание» (Кэрролл 1991, с. 16).
Трудно не увидеть здесь травестию знакомых интонаций и мотивов, хотя автор излишне увлекся своими любимыми играми с логикой. Однако почему бы не взглянуть под тем же самым углом и на сюжеты картинок, показанных мистером Карсвеллом? Что если история о Красной Шапочке, не послушавшейся взрослых и жестоко за это поплатившейся, и, более того, рассказ о мальчике, гуляющем по парку вечером, когда дети уже должны сидеть дома либо лежать в кроватках, в своем роде – истории нравоучительные? Причем, нравоучение, назидательность присутствует в них, каким бы образом не интерпретировались данные события. Принимают ли их за сказку, которая, хотя и ложь, да таит намек, или за страшную выдумку, воздействующую на аудиторию путем запугивания (назидательные рассказы о цыгане с мешком или о ком-то вроде него, подбирающем капризных, нерадивых, непослушных детей, знакома каждому), воспринимают ли в качестве подлинного события, случая из жизни, все равно.
« ...другую пластинку, изображавшую огромное скопление змей, сороконожек и отвратительных крылатых тварей ~ они покинули картинку и находятся среди зрителей…» – Перечисленные здесь существа относятся к категории непременных объектов онирических видений, охарактеризованных К. Г. Юнгом, а потому, собственно говоря, не только вполне уместны перед отходом ко сну, а как бы репрезентируют само состояние сна. Вполне логично, что грань между явью и сновидением тут размыта, трудно сказать, привиделось зрителям нечто в ночном кошмаре – пусть и коллективном – либо они в действительности увидели нечто во время сеанса. Между тем, дети испытывают к подобным существам особого рода интерес, возможно, замешанный на страшном онирическом облике их, как бы притягивающем, волнующем «от противного». Достаточно напомнить, что персонажами одной из самых популярных детских книг, повести Роальда Даля «Джеймс и персик-великан», являются гигантские насекомые – Сороконожка, Дождевой Червь, Кузнечик, Светлячиха, Божья Коровка, Паучиха, Шелкопряд. Впрочем, дети всегда тянутся к ужасному и даже отталкивающему, стоит вспомнить эпизод из повести К. Баркера «Вечный похититель» или рассказ Д. Д. Сэлинджера «К Эсме с любовью и всяческой мерзостью», в самом названии которого прочитывается эта тема.
О природе и длительности воздействия подобных образов К. Г. Юнг говорит: «Хорошо известно, что в наших широтах паук – животное вполне безопасное. Тем не менее у многих с ним связаны страхи и суеверия… <…> Подобно любым холоднокровным животным и животным, не имеющим цереброспинальной нервной системы, они входят в ряд онирических (связанных с видениями и галлюцинациями) символов, представляющих в высшей степени чуждый человеку психический мир. Насколько я могу судить, они обычно выражают такое содержимое, которое, будучи действенным, тем не менее еще долго не сможет стать осознанным; это содержимое как бы не входит в сферу цереброспинальной нервной системы и остается на более глубоко скрытом уровне симпатической и парасимпатической нервной системы» (Юнг 1994а, с. 81–82).
Немаловажна и такая подробность, связанная с историей волшебного фонаря и сеансами, проведенными при помощи его: «Уже в XVIII веке додумались посадить на стекло живую муху… а в XIX веке русский журнал “Волшебный фонарь” рекламировал специальную кювету со стеклянными стенками, куда предлагалось помещать “насекомых, инфузорий, червей и проч.”. Отброшенные на экран лучом “волшебного фонаря”, тени огромных тварей “производят на аудиторию сильное впечатление”, писал журнал, и советовал: добавьте в кювету каплю кислоты и понаблюдайте за сильным оживлением на экране, которое напомнит вам о бренности нашего бытия» (Лотман, Цивьян 1994, с. 35). Учитывая все это, эпизод с показом Карсвеллом картинок нетрудно воспринять и по-иному, по крайней мере, не усматривать в поведении героя только злонамеренность и жестокость.
«Это тот человек… что опубликовал “Историю колдовства” некоторое время тому назад…» – Любопытно отметить, что М. Саммерс, в свою очередь, опубликовавший книгу под характерным названием «История колдовства», говорил во вступлении к ней: «История ведьмовства – старый как мир и столь же обширный предмет изысканий. Под ведьмовством в этой книге я подразумеваю колдовство, черную магию, некромантию, тайную ворожбу, сатанизм и любые пагубные оккультные искусства, которые ставят перед писателем весьма нелегкую проблему. Ему предстоит сделать выбор, и дилемма, стоящая перед ним, облегчается разве что пониманием того, какой бы путь он ни избрал, его работа будет подвергнута уничижительной и подчас некомпетентной критике» (Саммерс 2002, с. 6). Мы далеки от мысли возводить какие бы то ни было фрагменты новеллы М. Р. Джеймса к этой книге, хотя бы потому, что издана она была после того, как новелла увидела свет (Краснова 2002в), однако, ситуация, упомянутая и у Джеймса, и у Саммерса, чрезвычайно характерна, а потому и фигура Карсвелла, и выпавшие на его долю трудности в общении с ученым миром кажутся типичными (о чем комментатор может судить и на собственном опыте общения с журналом «Вопросы литературы», куда был предложен материал о творчестве М. Р. Джеймса, сразу отклоненный на том основании, что сотрудники журнала не слышали о таком авторе, а жанр « ghost story » следует рассматривать в качестве разновидности массовой литературы).
«…Джон Харрингтон был в Иоанне одновременно с нами…» – Упоминаемый здесь колледж св. Иоанна (Сент-Джонс Колледж) – один из колледжей Кембриджского Университета, основанный в 1511 г. леди Маргарет Бьюфорт, матерью короля Генриха VII. Это второй по величине колледж из тех, что входят в состав Кембриджского университета, представляющего конфедерацию факультетов, колледжей и других административных единиц.
«Но главная загадка, что могло его заставить туда забраться. ~ Человек отнюдь не атлетического сложения… причем, и склонностей к эксцентрике за ним не замечалось ~ карабкается на дерево… сухая ветка подламывается, он падает… и сворачивает себе шею». – Более всего ситуация, охарактеризованная в данном фрагменте, напоминает сюжет лимерика. Тут и один из непременных атрибутов лимерика – дерево, на которое карабкается сумасшедший или просветленный герой-энтузиаст (причем, дерево – есть и непременный философский объект, как злобно пошутил в одном из своих многочисленных романов В. Набоков, а восхождение по стволу дерева может быть равно и физической разминкой и процессом чувственного познания мыслительной константы, символически приравнивающимся к самому философскому познанию, и процессом обретения самости (см.: Юнг 2002, 183–325)).
Но важнее другое: поэзия нонсенса, характерным жанром которой выступает лимерик, наводит на мысль о возможной интерпретации эпизода и конфликта, описанных в новелле. Литературовед Н. М. Демурова вполне справедливо заметила, что писателей, создававших литературу нонсенса «в чистом виде», было, собственно, только двое – Л. Кэрролл и Э. Лир (Демурова 1979, с. 53). То есть, они создали традицию, они же ее исчерпали (в более позднем уточнении тот же автор был и вовсе безапелляционен, заявив, что «Лир – единственный представитель “чистого” нонсенса» (Демурова 1998, с. 3)). Но следовало бы добавить: линия не прервалась, она претерпела изменения. В силу различного рода мутаций из поэзии нонсенса возникла «черная» поэзия, в свою очередь, явившаяся началом для садистских стишков и тому подобных жанров. Влияние такого рода поэзии (только еще выкристаллизовывавшейся) заметно в творчестве М. Р. Джеймса, назовем хотя бы новеллу «Стенающий колодец». Стихи эти помножили то, что имелось уже в народной поэзии («садистские» обертоны и мотивы нетрудно найти и в сборнике «Стишки матушки Гусыни») на интеллектуализм университетской культуры, так появились стихи Хиллари Бэллока, Уильяма Гилберта и т. д. В принципе, мистер Карсвелл, каковым хотят его представить недружелюбные соседи, есть персонаж этой «черной поэзии».
Что касается лимериков, в них нетрудно усмотреть еще и отклик на викторианские нравы, как отразились они в литературе (некая «вторая степень отражения»). «Он», имеющий то добрейший нрав, то склонности преступного гения, всегда противопоставлен «им», опять-таки, либо связанным по рукам и ногам собственной добротой, либо проявляющим ничем не мотивированную враждебность и насилие (Хаксли 1981).
Стоит только вчитаться в предисловие к одному из самых известных сочинений А. Кроули, чтобы разглядеть там прямые отсылки ни много ни мало к «Охоте на Снарка» Л. Кэрролла: «И вот я написал эту книгу, чтобы помочь Банкиру и Боксеру, Биологу и Поэту, Матросу и Лавочнику, Текстильщице и Математику, Стенографистке и Футболисту, Домохозяйке и Консулу – и прочая, прочая, прочая – свершиться в совершенстве, исполняя то, что надлежит исполнить каждому из них» (Кроули 1998б, с. 26). Это наводит на очень важную мысль: Кроули в жизни несомненно играл, но что, если он играл не по сценарию романа ужасов с его мелодраматическими эффектами, а по сценарию поэзии нонсенса или «садистских» стишков? В таком случае меняется вся система интерпретации его поступков.
«Это было в восемьдесят девятом, и мне кажется, его брат Генри (которого я хорошо знаю по Кембриджу…)…» – В данном случае необходимо в обязательном порядке учитывать неявный автобиографизм, ибо с Кембриджем связана немалая часть жизни М. Р. Джеймса. Например, в упомянутом 1889 г. он стал деканом Кингс-Колледжа. Но, по всей вероятности, упоминание о Кембридже неслучайно еще и потому, что в тексте новеллы есть скрытое противопоставление Кембридж/Оксфорд. Между ними существовало интеллектуальное соревнование, по видимости, отличались нравы и общепринятая модель поведения, соответственно «кембриджская» или «оксфордская», и у студентов, и у преподавателей (о чем см. соответствующее примечание). Тем не менее, в одном Кембридж навсегда обогнал Оксфорд, и разрыв этот невозможно было никак уничтожить: Кембриджский университет основан около 1209 г. – всего на несколько лет, но все же раньше, чем его соперник, Оксфордский университет.
…электрический трамвай провез еще одну остановку. – В замечательном исследовании Р. Тименчика было отмечено, что для русской поэзии трамвай является не просто устойчивым объектом описания, но и своего рода символом (Тименчик 1983, с. 135–143). Сейчас, кажется, вопрос можно поставить шире, ибо трамвай является константой целого периода европейской культуры. Настоятельность, регулярность движения и техническая логика этого вида транспорта, помноженная на отклонения в его действиях и внезапную непредсказуемость, чреватую катастрофой или рассматриваемую в качестве катастрофы, переходят из текста в текст, от автора к автору, притом не важно, сам ли это трамвай или его предшественник, конка, – что показал тот же Р. Тименчик.
Территория трамвая, его салон – области особо выделенные, события, разыгрывающиеся тут, сродни символической драме, в то время как трамвай (так же, как корабль или лодка, объекты, занимающие ключевое положение в мифе, с которыми трамвай в современной мифологии как бы уравнен, вернее, занял их место) становится площадкой для такой символической, даже мистериальной драмы. На этих подмостках решаются чаще всего вопросы жизни и смерти, это место ритуального, однако, и реального умирания, зафиксированное в таком качестве и фольклором: «Шел трамвай десятый номер, а в трамвае кто-то помер…»
Прежде корабль, а позднее конка и трамвай, – место, где с театральной выразительностью и отчетливостью разыгрываются прения жизни и смерти, добра и зла, в конечном счете, решается судьба героя. А потому объявление, помещенное в трамвайном стекле, не только своим содержанием, но и просто своим присутствием играет определенную роль в судьбе персонажей новеллы (и к тому времени скончавшегося Харрингтона, и живого Даннинга). Хотя сама по себе надпись, транспарант тоже немаловажный элемент новелл Джеймса (см. ниже).
Оно гласило: «Памяти Джона Харрингтона, Ч.О.И. “Лавры”, Эшбрук» . – Данная аббревиатура в английской традиции означает «член общества искусств», но, вполне вероятно, автор создает каламбур, ибо в американской традиции та же аббревиатура расшифровывается как «член общества антикваров», а это немаловажно, ведь рассказчиком историй о призраках у М. Р. Джеймса является некий антиквар (что нашло отражение в названиях первого и второго сборников новелл).
«Ему было отпущено три месяца» . – М. Кокс в примечаниях к новелле сообщает, что первоначально Харрингтону было дано 6 месяцев, то есть в два раза больше. Что же до самoй странной надписи, она напоминает об одном из наиболее известных библейских эпизодов – надписи, появившейся во время Валтасарова пира и содержавшей предупреждение (Даниил 5, 25–28). В рамках же прозы М. Р. Джеймса надписи, различные по содержанию, формируют устойчивый мотив. Можно напомнить хотя бы надпись, также несущую угрозу и являющуюся предупреждением: «ВИЖУ» – на лицевой стороне воздушного змея (причем, на лицевой в прямом смысле слова, ибо тут же нарисованы глаза) (Джеймс 2001).
«… это не переводная картинка… оно прямо в стекле… прямо в самом материале ...» – Анализируя законы восприятия и взаимоотношения объекта и субъекта, М. Ямпольский приводит любопытный пример: «Значительное внимание уделено также “медиуму” зрения – среде, в которой объект обретает видимость и которая сама в конце концов становится “объектом” (транспарантный покров, стекло). Значение медиума определялось тем, что по мере усиления процесса, который я описываю, как “отделение” наблюдателя от самого себя, на медиум начинают проецироваться свойства восприятия: например, время, затрачиваемое на восприятие образа, превращается во время прохождения образа через стекло. Иными словами, функция наблюдателя постепенно передается самому медиуму (фиксация изображения на сетчатке становится эквивалентной экспонированию фотопленки)» (Ямпольский 2000, с. 11).
А в другой монографии тот же исследователь описывает произведение искусства, построенное на подобном эффекте: «… Марсель Дюшан уже сознательно использовал стекло как эквивалент пространства между непосредственным и опосредованным. <…> Сам Дюшан называл свою картину “промедлением”(retard):“ Использовать промедление вместо картины или живописи; картина на стекле становится промедлением в стекле – но промедление в стекле не означает картины на стекле” . <…> Прежде всего, речь идет о том, что стекло хотя и прозрачно для взгляда, но пропускает его сквозь себя, на короткое время задерживая в себе. “Стекло” Дюшана понимается не как чистая прозрачность, не обладающая никаким временным измерением, но именно как промедление. Оно функционирует как окно, но как окно не совсем прозрачное.
Это “промедление” в значительной мере аналогично протяженности, длительности, необходимым для восприятия. Не случайны аналогии “Большого Стекла” с фотопластинкой, которая требует времени для фиксации на ней изображения. Но промедление это возникает не в сознании зрителя, а в самом носителе изображений, в стекле. Стекло становится не просто знаком прозрачности, но принимает на себя функцию воспринимающего сознания. <…> “Промедление” Дюшана имеет и явный онтологический оттенок. Оно описывает такое состояние бытия или сопоставимого с ним пространства топологической непосредственности, когда внешний, объектный мир еще не существует, но когда существование его уже становится потенциально значимым. Это как раз “промедление” перед раскрытием объектного мира, это крошечный отрезок времени, когда нечто мерцающее в стекле еще относится к области сознания, но дифференциация уже началась и сознание уже стоит на пороге интенциональности» (Ямпольский 2001, с. 24–26) .
…он заметил… человека с пачкой рекламных листков, таких, какие всучивают прохожим агенты предприимчивых фирм. Этот агент для своих манипуляций выбрал не слишком людную улицу… – Слово «агент», означающее, кроме прочего, «представитель, посредник, доверенное лицо…» и «действующая сила, фактор, средство» (Англо-русский словарь 1993), в художественном мире М. Р. Джеймса вырастает до уровня термина. Было бы логично выделить несколько членов цепочки, соединяющей область действительного, где обитают живые, с областью запредельного, где живут не только мертвецы, но и некие до времени бесформенные силы, возможно, сущности. И если живые по неведению, любопытству, а, порою, корысти (о чем писал в своей статье М. Кокс) как бы выкликают – в прямом смысле слова (ср. характерный эпизод в новелле «Граф Магнус») – или вызывают другими способами (тут часто играют роль медиаторы, проводники, предметы, вроде свистка в «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать…») жителей запредельного, то запредельная область не всегда высылает навстречу своих обитателей, которые порой не имеют облика, а потому вынуждены облекаться чужой плотью либо подвернувшимся материалом (рулон фланели в новелле «Необычный молитвенник»). У М. Р. Джеймса носители зла персонифицированы, при этом они именно «носители», а не само «зло», не сущность, а функция. В одном из эпизодов новеллы «Граф Магнус» присутствуют, кажется, все необходимые звенья такой цепочки: вызвавший инфернальное начало герой, мстительный демон и услышавший зов давно почивший граф Магнус.
… рука… прикоснулась к его руке, и он пережил своего рода шок от этого прикосновения. Рука показалась ему неестественно горячей и грубой . – Рука, независимо от тех свойств, которыми наделяет ее автор (должных означать инфернальное начало), вновь отсылает к эпизоду Валтасарова пира, это как бы смысловой и композиционный дублет. Именно возникшая неизвестно откуда рука начертала на стене слова предупреждения (Дан. 5: 5). Здесь рука, принадлежащая неизвестному агенту, дает листовку с именем Харрингтона и вновь забирает ее.
…в Отделе Рукописей он заполнил требования, заказав, кроме Харли 3586, несколько других томов . – В 1753 г. правительство купило основанное государственным деятелем и библиофилом Робертом Харли (1661–1724), первым графом Оксфордом, и его сыном Эдвардом Харли, вторым графом Оксфордом, собрание, куда входило более 7000 томов и более 14000 тысяч документов. Собрание это, к которому были присоединены еще две частных коллекции, положено в основу Британского музея.
Что же до конкретной отсылки, то в примечаниях к новелле М. Кокс указывает: «Харли 3586 состоит из двух монастырских реестров четырнадцатого века, написанных по-латыни». С этими реестрами связаны также два письма, уже на английском языке, написанных в семнадцатом веке. Комментатор недоумевает: в чем же ирония такой отсылки, если автор вообще иронизировал.
Но почему бы не предположить: а не в том ли ирония, что единственный в стране специалист по алхимии занимается такими никчемными вещами, как изучение монастырских реестров, и настолько ли он компетентен, чтобы оценивать труды Карсвелла, по-видимому, изучившего проблему досконально?
…вдруг ему показалось, будто сзади прошептали его имя . – Манипуляция с именем есть один из важнейших культурных мотивов, отразившийся в литературе: от известного эпизода из «Одиссеи», когда главный герой назвался подставным именем «Никто» (Гомер 2001) до перепевов этого мотива в постмодернистской поэтике: «И не спрашивай, если скрипнет дверь, “Кто там?” – и никогда не верь отвечающим, кто там» (Бродский 1990, с. 65), ведь «знание имени дает власть над его носителем: отсюда табуация имени… и мифологические мотивы выведывания подлинного имени божества» (Мифологический словарь 1991, с. 664). Здесь можно разглядеть и в некотором роде дубль ситуации с передачей псевдорун, описанной в следующем примечании, – Даннинг «узнает» свое имя, реагирует на него соответствующим движением, такого «отклика» достаточно, чтобы магический механизм заработал.
… тучный джентльмен ~ тронул его за плечо со словами: «Можно отдать это вам? Мне кажется, это ваше» . – Хотя определенной словесной формулы при передаче псевдорун, как нетрудно заключить из текста, не существует, структура диалога, сопровождающего такого рода манипуляцию, легко различима и при том устойчива. Передающий полоску с псевдорунами спрашивает: «Это ваше?», имея в виду, разумеется, не камуфлирующий полоску предмет – концертную программку, листок для заметок, – а полоску бумаги с нанесенными на нее таинственными знаками, о чем собеседник не знает, и получает ответ: «Да, мое», опять-таки, относящийся не к полоске с псевдорунами, а к тому, куда полоска эта вложена. Тем не менее, такого словесного ритуала (а перед нами не что иное, как ритуал) вполне достаточно. Обертоны обеих реплик в расчет не берутся. Вполне возможно, стоит напомнить о схожей формальности, описанной в концовке «Фауста». Главный герой, хотя и произносит долгожданную фразу, указанную в договоре с дьяволом, произносит ее в сослагательном наклонении. Он не говорит: «Остановись, мгновенье!», а только рассказывает, при каких обстоятельствах произнес бы подобную фразу. Но, не обращая внимание на неточность словесной формулы, дьявол тут же предъявляет свои права на Фауста (Гете 2001, с. 458–459).
Характерно, что в английской литературе также существует произведение, причем, в какой-то мере связанное с темой магии и колдовства, где словесные увертки и натяжки играют важную роль в сюжете и, в конце концов, решают судьбу главных героев. Макбету было предсказано, что он будет уничтожен человеком, не рожденным женщиной (Шекспир 1994, с. 608), и произойдет это, когда Бирнамский лес пошлет деревья на Дунсинанский холм (Шекспир 1994, с. 608); выясняется, что Макдуф, убивший Макбета, родился при вмешательстве врачей, сделавших его матери кесарево сечение (Шекспир 1994, с. 639), а ветками, сорванными в Бирнамском лесу, прикрыли себя воины, чтобы скрыть численность войска (Шекспир 1994, с. 633).
Цепочка столь серьезных натяжек подсказывает: необходим лишь предлог, зацепка, чтобы включить магический механизм. Впрочем, натяжка в каждом из перечисленных случаев настолько велика, что правомерно рассматривать ее и как случайное совпадение, не имеющее ни к магии, ни к колдовству решительно никакого отношения.
…он обнаружил на пороге доктора Ватсона, своего врача. – Автор делает отсылку к произведениям А. Конан Дойла; забавно в этой литературной игре то, что доктор Ватсон обязательно выступает в качестве второго участника характерного дуэта «Холмс & Ватсон», однако, меньше всего мистер Даннинг напоминает Шерлока Холмса, да и доктор у М. Р. Джеймса отнюдь не конандойловский персонаж. Однако связь с творчеством мэтра детектива присутствует не только на уровне персонажном. В определенном смысле, можно утверждать, что новеллы М. Р. Джеймса, столь отличающиеся от классических « ghost story », немало заимствовали из новеллы детективной (тема отдельная, и плодотворная).
…сунул руку под подушку: только рука в хорошо знакомый укромный уголок не добралась. То, чего он коснулся, было, по его уверениям, зубастым ртом, обросшим волосами, и, как он утверждал, отнюдь не ртом человека. – Демоны и дьявольские отродья в джеймсовских новеллах явно неантропоморфны. Может быть, правомерно ввести особую градацию, построить своеобразную «лестницу демонской эволюции» наподобие «лестницы», известной в европейской культуре и выстраиваемой, например, при планировании классических зоопарков. Так, Д. МакБрайд, готовивший иллюстрации к новелле «Альбом каноника Альберика», говорит о троглодите, тогда как новеллист выделяет в этом персонаже, скорее, промежуточные черты: «Нижняя челюсть его была узкой… плоской, будто у зверя; за черными губами виднелись зубы; носа не было; глаза жгуче-желтого цвета, на фоне которого зрачки казались черными и насыщенными… <…> В них была своего рода понятливость – ум, превосходящий ум зверя, но уступающий разуму человека».
Менее интересно, хотя и вполне закономерно, увидеть в этом эпизоде не влияние детской мифологии, а исследованный психоаналитиками мотив «vagina dentata». Куда любопытней рассмотреть функционирование этого мотива в сфере фольклора, где он лишен психоаналитических обертонов и выступает как полноправный фольклорный мотив: « Женщина имеет в промежности зубы. В североамериканском мифе все женихи одной очень красивой женщины умирают. Наконец, один из женихов догадывается в нужный момент ввести камень… Это – довольно распространенный мотив. Очень интересный и важный случай из гиляцкого фольклора приводит Штернберг… Здесь шесть человек айну поехали бить тюленя и заблудились. Они приезжают “на ту сторону” . Там на помосте сидят шесть женщин и чистят рыбу. Женщины зазывают гостей к себе в юрту и устраивают богатый пир. “На нары забрались, легли, уснули. Спустя некоторое время один из них встал, спустился, вот к женщине на постельке лег, вот пошептались, вот на нее забрался, ‘ой, ой, ой!' И умер” . То же происходит со вторым. “Их хозяин встал, вышел, на берег спустился, круглый камень взял, понес, в юрту принес, на нару забрался. Полежав, встал, к женщине, лежавшей на левой наре, на конце, примыкающем к средней наре, к ней подошел, поднялся, на постельку ее лег, пошептался, затем скрежет раздался; он поверх ее забрался, вот камень всадил, она укусила, зубы все поломал, ничего не оставил”. Дальше все идет беспрепятственно, женщина обезврежена» (Пропп 1998, с. 403–404).
Картину чудесного или, если угодно, чудовищного преображения дает в своем сочинении, названном самим автором «инфантильным романом», русский прозаик С. Юрьенен. Маленький мальчик приходит вместе с мамой и старшей сестрой в женскую баню, попадает в парилку и там видит страшных великанш. Они парятся, они хлещут друг друга вениками, стонут, пританцовывают и хохочут, и неожиданно среди этих чудовищ он обнаруживает собственную мать, только что хлеставшую веником какую-то другую великаншу, о том попросившую: «А та, которой мама удружила, влезает уровнем выше и раздвигает свои ножищи для удобства созерцать, оскаливаясь на меня зевом красным из волос между могучих бедер – как косматая медведица. И басит сверху…» (Юрьенен 1992, с. 28). Образ делается попросту звериным, вульва становится пастью.
Та же мифологическая ситуация зафиксирована и в современном фольклоре. Загадка: «Не было и не будет, а будет – весь мир погубит» имеет как бы два варианта – в зависимости от разгадки, которой отдано предпочтение. Но если один вариант – «п…. с зубами» – и впрямь «смертелен», то другой – «х.. с иголкой» – созданный от противного, кажется более поздней и малоудачной выдумкой, относится, скорее, к чисто городскому фольклору.
Попутно заметим, что, должно быть, сами свойства избранного объекта наводят на мысль о смертельной опасности (тот случай, когда Эрос, хочет он того или не хочет, переходит в Танатос). В фольклорной «подначке» свойства эти, приумножаясь, делаются очевидными, вопиющими – вопросы, не требующие ответа, а задаваемые, чтобы поставить в тупик или унизить собеседника: «Три п…. – большая яма?» и «Сто х… – большая куча?» можно рассматривать не как риторические построения, а как воплощение фольклорных сюжетов в несколько ином смысловом поле, тут сущностные, онтологические параметры рассматриваемых объектов преображаются в чисто пространственные, почти физические (материалы, связанные с современным бытованием фольклорных мотивов, предоставлены Е. Леммингом).
«…обнаружил полоску бумаги с чрезвычайно странными письменами, выведенными красным и черным… больше, чем на что-либо другое, они показались мне похожими на руны». – Энциклопедия указывает, что руны – это «линейные знаки; линии изображены так, чтобы их было легко вырезать на дереве. Основу большинства рун составляли одна или две вертикальные линии, вырезанные перпендикулярно в направлении древесного волокна. Горизонтальные линии употреблять избегали. <…> Мы видим руны, нацарапанные или вырезанные на пластинках из золота, на монетах, на каменных плитах и валунах, на глиняных горшках. Известны рунические надписи, сделанные викингами в соборе Св. Софии в Константинополе и на мраморном льве в Пирее. Такие краткие тексты, подчас состоящие из одного слова, с трудом поддаются интерпретации. Например, надпись, обнаруженная на древнем наконечнике копья, рассматривалась всеми исследователями как имя человека, однако одни читают ее слева направо, другие справа налево. В рунических текстах не было фиксированного направления для письма» (Энциклопедия символов 1999, с. 428–429).
Изобретение рун в скандинавской мифологии приписывается Одину. Он «девять дней висел… на высоких ветвях Игдрасила, размышляя и отыскивая тайную мудрость человека и Вселенной. Ибо власть рун существовала прежде появления человека. Они перемешаны с судьбой, и их влияние Один понял, когда испил из колодца Мимера. Они также имеют силу, которая превыше смерти и потустороннего мира. Руны предназначены для того, чтобы предохранять от ссор и тревог, ограждать от слабостей и болезней, тупить меч недруга, разбивать оковы, что связывают, утишать бури, охранять от нападений демонов, заставлять мертвых говорить, завоевывать любовь девы и отвращать нежеланную любовь. И еще многое другое.
Когда руны вырезаны в виде мистических символов, силу, которой они обладают, они передают оружию или человеку, что носят их, поскольку они управляют всеми вещами и наделяют властью побеждать и подчиняться. Тот, кто имеет некое желание, может достичь его, если только он знает руну, которая может добиться его выполнения, ибо руны имеют свое происхождение от Одина, главного управителя Вселенной, и самого мудрого бога. Его сила и знания хранятся в них» ( Маккензи 1995, с. 27) .
Мнение, будто гадание по рунам стало популярным лишь в 1980-е гг. ( Энциклопедия предсказаний 2000, с. 361) , не совсем верно. Интерес к рунам возник куда раньше, а на упомянутый период приходится лишь новый всплеск этого интереса.
«Кажется, стоит вернуть ему… явно, кто-то над этим поработал» . – Данный пассаж, по всей видимости, также следует анализировать, наряду с другими, где присутствуют постоянные топосы джеймсовских новелл. Стоит хотя бы сравнить его с пассажем из новеллы «Злокозненность неодушевленных предметов», где героям является воздушный змей, как кажется, носитель злого начала или, по крайней мере, его предстатель, агент. Мистер Мэннерс, увидев эту игрушку на зеленом склоне холма, делает неожиданное умозаключение: «Осмелюсь предположить, змей недурно ему послужил… и пришлось же повозиться, мастеря его». Собеседник поначалу недоумевает, услышав подобное: «Кому? – резко спросил мистер Бертон. – А, понимаю, вы говорите о мальчике» (Джеймс 2001). Между тем, какой бы то ни было мальчик или подросток в новелле так и не появляется.
Тщательность отделки зловредного предмета или объекта, кропотливость работы над ним, а равно – немалые силы, употребленные на это производство, то есть вложенные в носитель зла, – устойчивые характеристики такого рода объектов и предметов у М. Р. Джеймса. Нетрудно предположить, что, по мысли автора, зло субъекта сублимируется в создании его рук. Таким образом, вполне объяснима боязнь Даннинга и Генри Харрингтона копировать руны или псевдоруны, о которой упоминается чуть далее (см. также соответствующее примечание).
«Наверное, дверь распахнуло ветром, хотя я этого не заметил: во всяком случае, порыв воздуха… совершенно неожиданно… подхватил бумагу и кинул ее прямо в огонь: легкая тонкая бумажка в одно мгновение вспыхнула и вылетела пеплом в трубу». – Культурное поле новелл М. Р. Джеймса чрезвычайно плотное, потому что оно достигло едва ли не предельной степени насыщения. Вполне вероятно, автор уступает своим современникам в разнообразии цитируемых источников (статистический анализ не производился), однако частота цитирования у него очень высока. Нет смысла, да и нужды указывать в данном случае на тех, кто стоял у истоков постмодернистской традиции и работал в ее рамках, тем более, цитата или отсылка здесь выполняют роль разрушительного механизма, некоего рычага, переворачивающего ситуацию, ломающего целое. Для культурного направления, к которому можно отнести М. Р. Джеймса, предел – это цитирование в Библии, отсылки идут к одному и тому же источнику, но зато пронизывают весь текст насквозь.
Итак, в качестве основы для скрытых цитат и аллюзий в прозе М. Р. Джеймса выступают – вспомним, что автор, в первую очередь и по большей части, теолог – Библия, ее вариации, интерпретации и толкования, разрастающиеся до масштабов классической христианской культуры, авторы, вошедшие в пантеон бессмертных (Шекспир, Мильтон, Диккенс) и рядом забавные паракультурные добавления, то, что обычно считается расположенным за пределами изящной словесности или на самой ее грани; в качестве примера стоит привести неоднократное пикирование с Э. По.
Гибель бумажной полоски, на которой были запечатлены руны, имеет также очевидную параллель. Судьба героя романа Г. Уэллса, человека-невидимки, была переломлена вследствие трагической случайности: «Он получил от кого-то рецепт – чрезвычайно ценный рецепт: для какой цели, этого он не может сказать. “Медицинский?” “Черт побери! А вам какое дело?” Я извинился. Он снисходительно фыркнул, откашлялся и продолжал. Рецепт он прочел. Пять ингредиентов. Положил на стол, отвернулся. Вдруг шорох: бумажку подхватило сквозняком. Каминная труба была открыта. Пламя вспыхнуло, и не успел он оглянуться, как рецепт сгорел и пепел вылетел в трубу. Бросился к камину – поздно! Вот! Тут он безнадежно махнул рукой» (Уэллс 1964, с. 285). Упомянутое здесь произведение «Человек-невидимка: гротескный роман» («The Invisible Man; A Grotesque Romance»), было опубликовано в 1897 г. и привлекло не меньшее внимание, чем другие сочинения Г. Уэллса, относящиеся к первому периоду его творчества.
«Там нет и намека на какой бы то ни было стиль: незавершенные периоды и все те вещи, которые вызывают прилив дурноты у выпускника Оксфорда» . – О противопоставлении Кембриджа и Оксфорда упоминалось выше, а потому насмешка над вкусами и предпочтениями оксфордского выпускника вполне уместна. Однако нас больше интересуют «оксфордская» и «кембриджская» модели поведения и сопоставление их.
Как говорится в «аннотированной» «Алисе»: «Известный американский ученый Норберт Винер писал в главе 14 своей автобиографии: “Бертрана Рассела можно описать одним-единственным способом, а именно – сказав, что он вылитый Болванщик… Рисунок Тенниела свидетельствует чуть ли не о провидении”». – И М. Гарднер добавляет: «Винер указывает далее, что философы Дж. М. Э. Мак-Таггарт и Дж. Э. Мур, коллеги Рассела по Кембриджу, чрезвычайно походили на Мышь-Соню и Мартовского Зайца. Всех троих в Кембридже называли “Троица Безумного чаепития”» (Кэрролл 1991, с. 56). Комментатор русского перевода уточняет, что здесь содержится намек на Тринити-Колледж, то бишь «Колледж Св. Троицы», где все участники троицы были профессорами (Кэрролл 1991, с. 342).
Итак, вполне возможно, что одна из неявных линий новеллы – противопоставление Оксфорда и Кембриджа, но противопоставление не только замаскированное в нескольких мелких замечаниях, сделанных по ходу, а вложенное в дихотомию разных типов поведения. И тогда, если герой типа Болванщика – явное воплощение поэтики нонсенса, то герой вроде Карсвелла, как выше указывалось, герой «садистского» стишка или «страшилки». Оставляя на долю Оксфорда первое (напомним, что Л. Кэрролл, создатель нонсенса, был всю жизнь связан именно с этим университетом), второе автор отдает Кембриджу, в котором трудился сам, равно как и многие авторы, работавшие в «джеймсианской» манере, и где учился упомянутый выше А. Кроули. Высказанное нами мнение, что и поведение погибшего Харрингтона можно прочитать в смысловом поле нонсенса, отнюдь не противоречит сказанному. Хотя автор новеллы указывает, что Харрингтон учился в Иоанне (колледже Кембриджского университета), это относится к фабуле новеллы, в то время как для сюжета куда более значительно противопоставление Кембридж/Оксфорд. Конкретные подробности могут не совпадать, да они и находятся в разных смысловых пластах.
«…человек этот ничего не забыл: классические мифы и рассказы из “Золотой легенды”…» – Якобо де В орагин (ок. 1230 – ок. 1298) прославился сводом жизнеописаний святых, первоначально носившим название «Legenda Sanctorum», но вскоре сделавшимся повсеместно известным под названием «Legenda Aurea», то есть «Золотая легенда» (современники считали, что ценить ее надо на вес золота). В предисловии автор делит церковный год на четыре периода, которые он сравнивает с четырьмя эпохами в истории мира, а именно: отступления, обновления, примирения и паломничества. Основная часть труда содержит 177 глав, разделенных на пять частей: от Рождественского Поста до Рождества, от Рождества до Третьего воскресенья перед Великим постом, от Великого поста до Пасхи, от Пасхи до восьмого дня после Пятидесятницы, от Восьмого дня после Пятидесятницы до Рождественского Поста.
Если подходить к «Золотой легенде» с историческими критериями, следует признать, что она не выдерживает никакой критики, а, следовательно, не имеет и ценности (за исключением того, что демонстрирует необычайную наивность и чрезвычайную религиозность людей того времени). Но если смотреть на «Золотую легенду», как на искусно составленную книгу о страстной вере, придется констатировать ее полный успех. Главным намерением автора, как, впрочем, и других средневековых сочинителей, обращавшихся к той же тематике, было не составить достойные доверия биографии или сочинить научный трактат для людей ученых, а написать книгу для истово верующих. Труд Якобо де В орагина, несомненно, производил огромное впечатление на людей – он немедленно стал популярен и оказал огромное влияние как на прозу, так и на поэзию разных народов. Так «Золотая легенда» Г. Лонгфелло, образующая вместе с двумя другими поэмами трилогию «Христос», заимствовала свое название и многие образы из произведения Якобо де В орагина.
Бернард Гвидонис (? – 1331), также доминиканец, предпринял тщетную попытку вытеснить «Золотую легенду» сочинением «Speculum Sanctorum», более достоверной работой сходного характера. Но уже к 1500-му г. «Золотая Легенда» выдержала 74 латинских издания, не считая трех переводов на английский, пяти на французский, восьми на итальянский, четырнадцати на нижненемецкий и трех на богемский языки. Многие последующие издания содержали добавления о жизни других святых и о праздниках, введенных после XIII столетия.
«…перемешаны с сообщениями о нынешних обычаях дикарей…» – В конце XIX и начале XX веков сильно возрос интерес к жизни и культуре «примитивных» народов. В частности, необычайный подъем переживала английская наука: достаточно назвать имена Э. Тэйлора, сэра Дж. Дж. Фрэзера, А. Р. Рэдклиф-Брауна, Б. Малиновского. Причем изучались не только и не столько классические источники, а истолковывались с точки зрения этнографии и собирались сведения о примитивных обществах новейшего времени, проводились обширные полевые исследования в области этнологии.
«…он, казалось, не видел разницы между “Золотой легендой” и “Золотой ветвью”, одинаково веря обеим: короче, жалкая картина» . – М. Кокс отмечает, что отношение М. Р. Джеймса к сочинениям Дж. Дж. Фрэзера было, мягко говоря, скептическим, впрочем, как и к компаративистике вообще. Противопоставление «Золотой легенды» и «Золотой ветви», внешне напоминающее забавный каламбур, отнюдь не случайно. Подобное противопоставление существует и в новелле «Два лекаря», где священник-рационалист с презрительной насмешкой отзывается о мировосприятии, характерном для человека, воспитанного на сказаниях из «Золотой легенды». По логике самого М. Р. Джеймса, как мы можем заключить из его прозы, по сути дела, между этими сочинениями нет принципиальной разницы. Оба представляют возможные варианты, разный взгляд на одни и те же явления. Вопрос не в степени «научности» того или иного труда (согласимся, что о какой-либо упорядоченности, методичности той же «Золотой ветви» и говорить не стоит), дело в подходе, силе адаптационных механизмов, преобразующих накопленные сведения. «Золотая легенда» подразумевает иную, чем «Золотая ветвь», аудиторию. Здесь рассказ ведется в расчете на неофитов, не-письменных христиан, если так можно выразиться. В целом, речь должна идти о двух различных картинах мира, зависящих от избранной автором или составителем системы координативных дефиниций (термин Г. Рейхенбаха).
… оба не решались их скопировать, боясь… разбудить к жизни ту злую силу, которая могла в них таиться . – В первой главе книги «Демон и лабиринт» М. Ямпольский на примере прозы Гоголя и Достоевского рассуждает о миметических аспектах письма, в некотором роде, о преобразовании телесности в текст (Ямпольский 1996, с. 18–51). Таким образом, правомерно предположить два варианта ситуации. Тщательно выписанный текст псевдорун (подобно тщательно сделанным вещам в других джеймсовских новеллах) аккумулировал в себе энергию своего создателя, а потому, копируя эти знаки, переписчики способны либо сами «вжиться» в область зла, «вписаться» в нее, либо влить туда и свою собственную энергию. Как бы то ни было, пусть автор и не отдает предпочтение тому или иному варианту, он явно стоит на точке зрения, что копирование псевдорун способно актуализировать их вредоносные свойства.
…бумагу следует вернуть туда, откуда она взялась ~ единственный безопасный и верный способ – сделать это лично… – Вскоре после публикации новеллы «Подброшенные руны» вышел в свет знаменитый «Очерк о даре» М. Мосса, где автор вскрывает механизмы подобного обмена, рассуждая о «тотальных поставках агонического типа», то есть, о таком обмене подарками, когда из участников обмена « каждый предлагает свое гостеприимство или подарки так, словно они никогда не должны ему быть возмещены. Однако каждый все же принимает подарки гостя или встречные подношения хозяина, потому что они представляют собой ценности, а также средство укрепления договора, неотъемлемую часть которого они составляют» (Мосс 1996, с. 84).
М. Мосс ставит вопрос следующим образом: «Из всех указанных сложнейших аспектов, из этого множества находящихся в движении социальных объектов мы хотим рассмотреть здесь только одну глубинную, но специфическую черту: добровольный, внешне, так сказать, свободный и безвозмездный и, однако, в то же время принудительный и небескорыстный характер этих поставок. Они почти всегда облекались в форму подношения, великодушно вручаемого подарка, даже тогда, когда в этом жесте, сопровождающем сделку, нет ничего, кроме фикции, формальности и социального обмана, когда за этим кроются обязательность и экономический интерес. Более того, хотя мы и обозначим точно разнообразные принципы, породившие эту обязательность обмена (т. е. самого разделения общественного труда), все же из всех этих принципов мы углубленно изучим лишь один. Какова юридическая и экономическая норма, заставляющая в обществах отсталого или архаического типа обязательно отвечать подарком на подарок? Какая сила, заключенная в даримой вещи, заставляет одариваемого делать ответный подарок? Такова проблема, на которой мы сосредоточим внимание, не упуская из виду все остальные» (Мосс 1996, с. 86).
Используя материал, относящийся к быту маори, автор говорит: «Итак, наблюдение это приводит нас к очень важной констатации. Предметы таонга, по крайней мере в теории права и религии маори, очень тесно связаны с личностью, кланом, землей: они проводники своей “маны”, магической, религиозной и духовной силы. В одной пословице… к ним обращена мольба уничтожить человека, принявшего их. Стало быть, они содержат в себе эту силу на тот случай, если правовая обязанность, особенно обязанность возмещать, не стала бы соблюдаться» (Мосс 1996, с. 96–97) И далее: «Обязывает в полученном “обменном” подарке именно то, что принятая вещь не инертна. Даже оставленная дарителем, она сохраняет в себе что-то от него самого. Через нее он обретает власть над получателем, так же как, владея этой вещью, он обладает властью над вором. Ибо таонга одушевляется хау своего леса, своей местности, своей почвы; она действительно является “коренной”: хау преследует всякого владельца» (Мосс 1996, с. 98).
О сущности взаимоотношений, возникших при обмене бумажками с таинственными знаками, можно судить, исходя из следующих наблюдений, о которых сам автор «Очерка о даре» говорит, что здесь характеризуются не только социальные явления в Полинезии, но и за ее пределами: «…совершенно ясно, что в маорийском праве правовая связь, связь посредством вещей – это связь душ, так как вещь сама обладает душой, происходит от души. Отсюда следует, что подарить нечто кому-нибудь – это подарить нечто от своего “Я”. Итак, теперь мы лучше представляем себе самоё природу обмена посредством даров, всего того, что мы называем тотальными поставками, а среди последних – природу “потлача”. В этой системе идей считается ясным и логичным, что надо возвращать другому то, что реально составляет частицу его природы и субстанции, так как принять нечто от кого-то – значит принять нечто от его духовной сущности, от его души. Задерживать у себя эту вещь было бы опасно, смертельно, и не просто потому, что это не дозволено, но также и потому, что не только морально, но и физически и духовно эти идущие от личности вещи, эта сущность, пища, движимое и недвижимое имущество, женщины или потомки, обряды или союзы обладают над вами религиозно-магической властью. Наконец, даваемая вещь не инертна. Будучи одушевленной, часто индивидуализированной, она стремится к возвращению в “родительский дом”, как это называет Герц, или же к созданию для клана и почвы, местности, откуда она вышла, некоего эквивалента самой себя» (Мосс 1996, с. 100).
И потому дары, предназначайся они людям или богам, должны купить мир, устранить вредные влияния, «даже неперсонализированные, ибо проклятие человека позволяет завистливым духам проникнуть в вас, убить вас, дурным силам – действовать, а проступки против людей ставят несчастного виновного лицом к лицу со зловещими духами и вещами» (Мосс 1996, с. 108).
Любопытно, между прочим, и то, что М. Мосс в своей работе ссылается и на публикацию А. Кроули как на один из источников (Мосс 1996, с. 108).
Стоит напомнить о произведении, в свою очередь, наверняка известном автору новеллы. В романе У. Коллинза «Лунный камень» есть аналогичный момент, посвященный «дару», возвращению его или компенсации, хотя романист намеренно ведет повествование в юмористической тональности, типичной для английского романа XIX века. Здесь, так же, как в «Подброшенных рунах», событиям дается неверная оценка, но причина не только в том, что поэтика детектива (столь близкая М. Р. Джеймсу) предполагает до определенного момента подобную неверную оценку, но и в самом повествовательном регистре. У. Коллинзу, одному из самых талантливых английских писателей эпохи, важна не только и не столько загадка украденного бриллианта, для него существеннее, как повлияла пропажа на героев, он в высшем смысле бытописатель и рисует человеческие характеры. А потому рассказ о пропаже и поисках «Лунного камня» дан в виде фрагментов, последовательно изложенных тем или иным свидетелем событий. Большинство свидетелей в силу простодушия или врожденной глупости оценивают происходящее не так, как следовало бы, исходя даже из их собственного письменного свидетельства. Среди других персонажей в романе фигурирует старая дева, набожная ханжа, – она рассовывает везде брошюрки нравственно-поучительного содержания. Жертвой ее экспансии становятся извозчик, слуга, мать героини (которой та послала по почте выписки из брошюрок, то есть, почти наверняка обеспечивая получение подарка и невозвращение его) и, наконец, сама героиня (ей старая дева отказала брошюрку в своем завещании, таким образом, наверняка не давая дару вернуться).
Сначала Даннинг должен изменить внешность и сбрить бороду . – «Отрезание бороды и усов, стрижка волос – символические действия, часто сопровождающие перемену статуса, разрыв с привычным образом жизни, начало странствий и поисков» (Щеглов 1995а, с. 445; там же содержится отсылка к работе В. Я. Проппа, который связывал этот мотив с обрядом инициации).
Харрингтон полагал, что они способны вычислить время. – Эта размеренность указывает на определенную симметрию причины и следствия, что лишний раз подтверждает важность ритуальных моментов, запечатленных в новелле.
Он знал дату концерта, где на его брата легла «черная метка» … – В комментариях к новелле М. Кокс указывает, что понятие заимствовано из главы III романа Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ». Следует, однако, уточнить: «черная метка» упомянута у Стивенсона не единожды. События начинают подготавливаться еще в главе II, имеющей характерное название «Черный Пес приходит и уходит» (Стивенсон 1981, с. 19).
В главе III, названной собственно «Черная метка» (Стивенсон 1981, с. 25), к Билли Бонсу, проживавшему в трактире «Адмирал Бенбоу», является слепой, который ему эту метку вручает. Сцена сама по себе выразительна и символична:
«– Я слышу голос, – прогнусавил старик, – и молодой голос. Дайте мне руку, добрый молодой человек, и проводите меня в этот дом!
Я протянул ему руку, и это ужасное безглазое существо с таким слащавым голосом схватило ее, точно клещами.
Я так испугался, что хотел убежать. Но слепой притянул меня к себе.
– А теперь, мальчик, – сказал он, – веди меня к капитану.
– Сэр, – проговорил я, – честное слово, я боюсь...
– Боишься? – усмехнулся он. – Ах, вот как! Веди меня сейчас же, или я сломаю тебе руку!
И он так повернул мою руку, что я вскрикнул» (Стивенсон 1981, с. 29).
Характерно, что юный герой, хочет он того или не хочет, выступает здесь в роли медиатора зла, вводя его в мир. Ощущения при этом – из ряда вон выходящие: «Слепой вцепился в меня железными пальцами, навалясь на меня всей своей тяжестью, и я едва держался на ногах» (Стивенсон 1981, с. 29).
Тут и знакомые атрибуты (ведь, кроме прочего, «черная метка» еще и предупреждение, функцию которого в художественном мире М. Р. Джеймса выполняют надпись или транспарант) – рука, текст, словесная формула, завершающая магический обмен:
«– Ничего, Билли, сиди где сидишь, – сказал нищий. – <…> Дело есть дело. Протяни свою правую руку... Мальчик, возьми его руку и поднеси к моей правой руке.
Мы оба повиновались ему. И я видел, как он переложил что-то из своей руки, в которой держал палку, в ладонь капитана, сразу же сжавшуюся в кулак.
– Дело сделано, – сказал слепой» (Стивенсон 1981, с. 30).
Назначен и конкретный срок, когда свершится наказание: «Прошло довольно много времени, прежде чем мы с капитаном очнулись. Я выпустил его запястье, а он потянул к себе руку и взглянул на ладонь.
– В десять часов! – воскликнул он. – Осталось шесть часов. Мы еще им покажем!» (Стивенсон 1981, с. 30).
Опустим описание самой черной метки, полученной старым пиратом, и обратимся к событиям, изложенным в главе XXIX, которая носит название «Снова черная метка» (Стивенсон 1981, с. 156). Здесь черную метку собираются вручить Джону Сильверу, но человек, назначенный это сделать, лишен посредника и ведет себя совершенно иначе:
«Дверь распахнулась, и пятеро пиратов нерешительно столпились у порога, протаскивая вперед одного.
При других обстоятельствах было бы забавно смотреть, как медленно и боязливо подходит выборный, останавливаясь на каждом шагу и вытянув правую руку, сжатую крепко в кулак.
– Подойди ближе, приятель, – сказал Сильвер, – и не бойся: я тебя не съем. Давай, увалень, что там у тебя? Я знаю обычаи. Я депутата не трону.
Ободренный этими словами, разбойник ускорил шаг и, сунув что-то Сильверу в руку, торопливо отбежал назад к товарищам.
Кок глянул на свою ладонь.
– Черная метка! Так я и думал, – проговорил он. – Где вы достали бумагу? Но что это? Ах вы, несчастные! Вырезали из Библии! Ну, будет уж вам за это! И какой дурак разрезал Библию!
– Вот видите! – сказал Морган. – Что я говорил? Ничего хорошего не выйдет из этого.
– Ну, теперь уж вам не отвертеться от виселицы, – продолжал Сильвер. – У какого дурака вы взяли эту Библию?
– У Дика, – сказал кто-то.
– У Дика? Ну, Дик, молись богу, – проговорил Сильвер, – потому что твоя песенка спета. Уж я верно тебе говорю» (Стивенсон 1981, с. 156–157).
«Черная метка» и в романе Стивенсона выполняет негативную функцию, однако, само действие переведено тут в план психологический, какой бы то ни было мистики или магии нет и в помине. Завершая тему, связанную с эмблематикой «дара» и «проклятия», вручаемого вместе с ним, процитируем весьма характерный пассаж, о котором стоит вспомнить в дальнейшем. Вот как выглядит вторая черная метка, фигурирующая в романе: «Величиной она была с крону. Одна сторона белая – Дик разрезал самую последнюю страницу Библии, – на другой стороне были напечатаны стиха два из Апокалипсиса. Мне врезались в память, между прочим, два слова: «Псы и убийцы» (Стивенсон 1981, с. 160).
«…в течение этих недель две вещи пришли к нему по почте…» – Характерно явление вещей, как проводников чужой и злой воли (см.: Джеймс 2001). Они именно «пришли», явились, посланные кем-то.
«…грубо выдранный лист с гравюрой Бьюика…» – Томас Бьюик (1753–1828) оказал значительное влияние на развитие искусства книги: «Уже в 70-х гг. XVIII в. английский гравер Т. Бьюик заменил доски продольного распила поперечными, оказывающими во всех направлениях одинаковое сопротивление инструменту, а нож в руке гравера – штихелем, орудием резцовой гравюра по металлу. Он иллюстрировал в этой технике ряд книг, главным образом естественно-научного содержания. Новая техника была более легкой и быстрой и в то же время позволяла обогащать и разнообразить фактуру оттиска. На протяжении первых десятилетий XIX в. торцовая гравюра начинает использоваться в книге и к началу 30-х гг. становится одной из главных репродукционных техник, органически входя в книжный набор и свободно размещаясь на полосах среди текста» (Герчук 2000, с. 227).
Здесь надо обратить внимание на две вещи, хотя как бы и подразумеваемые автором, даже отчасти заявленные, но оставленные на заднем плане. Смена техники привела не только к смене рабочих орудий, но и самого принципа взаимоотношений между человеком, материалом и инструментом, на этот материал воздействующим. Непосредственная связь – вроде связи между рукой и карандашом, карандашом и фактурой бумаги, по которой он движется (Башляр 1989), утеряна. Субъективность человека, в частности, его телесности, сложный баланс рычагов и масс, как бывает при студийной записи граммофонной пластинки и при ее проигрывании, между рукой художника и его телом, путем перекодировки сигналов воплощающим через карандаш свою особость, опять-таки, помянутую уже субъективность, уступает место почти объективной фиксации, процессу обезличивания. Недаром – об этом упоминает Ю. Герчук – темой для торцовой гравюры является техника, где субъективность излишня. И вовсе неспроста такая гравюра сосуществует с текстом в одном пространстве печатного издания, а не на отдельном листе.
Изображенное Бьюиком меньше всего можно считать выдумкой, иллюстрацией к тексту «Сказания о Старом Мореходе». Это обязательная часть книги, где зафиксировано доступными средствами действительное, то есть то, что и в самом деле было. Такого рода гравюра может служить и представителем, неким предстателем, несущим свойства зафиксированного объекта, а потому она была вырвана из альбома (характерно, что и под иллюстрациями имелись подписи, а потому изображение не утрачивало связь с большим целым, подтверждалось и средствами других искусств). Присланная несчастному Харрингтону, гравюра эта сыграла свою роль, и потому впоследствии отсутствует, утрачена, – в чем убедился Данниг, купивший альбом с гравюрами из собрания Карсвелла.
Несколько слов стоит добавить относительно символического звучания такой гравюрной техники. Открывшиеся возможности работы давали художнику особенным образом использовать широкие белые и черные плоскости фона (Власов 1996, с. 158). Что символизируют белый и черный цвета, а равно и взаимоотношения этих цветов, говорить излишне.
«…где изображена залитая лунным светом дорога и человек, идущий по ней, которого преследует ужасная демоническая тварь». – В контексте всего творчества М. Р. Джеймса данный фрагмент приобретает особое звучание. Ситуация напоминает не столько о строках из поэмы Кольриджа (о чем речь ниже), сколько о другом (едва ли не самом известном) произведении М. Р. Джеймса «Граф Магнус», ставшем, в некотором роде, эмблемой автора (см.: Лавкрафт 2000, с. 436–437). Сложность еще и в том, что именно этот эпизод из упомянутой новеллы проиллюстрировал друг автора Д. МакБрайд перед своей ранней и неожиданной кончиной, а потому фрагмент прочитывается в нескольких регистрах – начиная от литературного и кончая биографическим.
«Под ней были написаны строки из “Старого Морехода”»… – В произведениях С. Т. Кольриджа, в частности, в упомянутой поэме, интересны взаимоотношения прозаической ремарки и поэтического текста, которые правомерно сопоставить со взаимоотношениями иллюстрации и поэтического текста, как существуют они и в новелле М. Р. Джеймса. Такая взаимная референция дает возможность воспринимать рисунок и текст в качестве «квазибилингвы».
…идет… и чувствует, что позади ужасный дух ночной. – Из имеющихся переводов фрагмента перевод Н. Гумилева (Кольридж 1974, с. 446–451) наиболее приемлемый, хотя и он не совсем точен. Но для нас любопытна сама ситуация. Кажется, М. Ямпольский, рассматривавший в своей книге возможные варианты удвоения и даже вводивший особое понятие «демон», которое основано на понятии, заимствованном у античных авторов, не учел именно этот, столь очевидный и характерный случай (Ямпольский 1996). У него некая мыслимая, интеллектуально выводимая величина, некое удвоение, существующее в пространстве, мыслимость, парная механической телесности; здесь же мы имеем особый случай, достойный отдельного описания.
Что до Кольриджа, в его поэме согласно средневековым поверьям, ведьмы могли посылать своих спутников – животных, сопровождавших их к неугодным им людям (Гуили 1998, с. 544). Тот же автор отмечает, что практически во всех мировых культурах шаманы имеют духов-помощников, посылают их, чтобы навредить кому-то или убить кого-то.
«Уезжает вокзала Виктория поездом отходу корабля…» – Вокзал «Виктория» соединяет Лондон с портами южного побережья Англии.
…последней его остановкой перед Дувром являлся Кройдон-Уэст. – Кройдон – небольшой населенный пункт, входящий в графство Большой Лондон, Юго-Восточная Англия, включает пригороды Кройдон, Перли и Коулсдон.
… куковский билетный футляр, а в нем билеты. На внешней стороне этих футляров есть кармашек … – Изобретение одного из родоначальников современного туристического бизнеса Томаса Кука (1808–1892) описано автором точно и лапидарно.
…поезд остановился у Дувр-Тауна. – Дувр – небольшой город в графстве Кент, Юго-Восточная Англия, расположенный у Дуврского пролива, под меловыми горами. Это курорт, а также имеющий большое значение порт, откуда направляются корабли на континент. Дувр отделяет от Франции расстояние всего в 21 милю, а потому здесь имеется и паромная переправа.
«Собака с ним, или чего?» – Нетрудно понять, почему чернокнижника Карсвелла сопровождала собака. Уже в средневековых легендах о докторе Фаусте упоминается, что дьявол, сопровождавший мага и нигроманта Фауста, часто превращался в собаку. «Были у него, – пишет Гаст, – собака и конь, которые, полагаю, были бесами, ибо они могли выполнять все, что угодно. Слыхал я от людей, что собака иногда оборачивалась слугой и доставляла хозяину еду» (цит. по: Жирмунский 1958, с. 389).
Напомним еще об одной параллели между Карсвеллом и доктором Фаустом, которая с абсолютной ясностью покажет, почему рядом с Карсвеллом возникло это животное. Кристофер Марло, кстати, автор пьесы о докторе Фаусте, принадлежал к знаменитой «школе атеизма», сплотившейся вокруг сэра Уолтера Рэйли (Ралея). Недоброжелатели утверждали, что «Ралей и его друзья “одинаково издеваются над Моисеем и над нашим Спасителем, над старым и новым заветом и, помимо всего прочего, обучают писать имя господа наоборот” (т. е. dog – “собака” вместо God – “бог”, кощунство, о котором упоминается и в “Фаусте” Марло)» (цит. по: Жирмунский 1958, с. 436). Тут, как мы видим, весьма четко, будто вывернувшись наизнанку, высокое отображается в низком. Вывернутый наизнанку Бог оборачивается собакой, то есть, в этом превращении, во-первых, слышны отзвуки грехопадения ангелов, во-вторых, содержится намек на то, что возомнивший себя богом и полагающий, будто правит жизнью и смертью, Карсвелл близок к падению, а в-третьих, здесь различим фольклорный мотив: за грешником, заключившим договор с дьяволом, приходит этот последний, когда истекает срок договора .
В свете вышесказанного ясно, почему служителю, стоявшему у сходней, виделась то собака, то джентльмен, спутник Карсвелла. «В легендах и преданиях различных областей Англии… встречается немало преданий о черных демонических собаках. Этих собак обычно называют Черные Псы, а иногда Старые Псы, от англо-саксонского слова “Scucca”, означающего “демон”. Подобно привидениям… Черный Пес таится неподалеку от кладбища, пустынной сельской дороги, покрытой туманом топи или на холмах вокруг деревни... Черный Пес – творение ночи, ростом с теленка, глаза горят красным или зеленым огнем… он идет вслед за путниками, дыша им в затылок ледяным холодом. Он служит знамением смерти; если человек увидит Черного Пса, это значит, что он или кто-то из его семьи скоро умрет.
Черные собаки-призраки играют видную роль в сложившихся в средние века и эпоху Возрождения представлениях о черной магии. Считалось, что дьявол появляется в образе черной собаки. Ведьмы умели сами превращаться в черную собаку или насылать демонических спутников ведьм под видом собаки, чтобы околдовывать и мучить свои жертвы» (Гуили 1998, с. 627–628).
Немаловажен и чисто культурологический аспект, который, как правило, не учитывают, толкуя о перевоплощениях дьявола. Собака – явление в своем роде уникальное: «Нет другого животного, которое так кардинально изменило бы весь свой образ жизни, всю сферу своих интересов, стало бы до такой степени домашним…» (Лоренц 2001, с. 7).
Долго-долго эти двое сидели в своем номере в «Лорде Уордене». – Здесь упоминается подлинный отель, в котором, по словам М. Кокса, М. Р. Джеймса несколько раз останавливался, когда бывал в Дувре. Но, кроме того, название отеля переводится «Лорд-Хранитель» (т. е. Бог).
«…он заказал билет только до Аббевиля…» – Аббевиль – небольшой городок (даже к 1990 г. его население составляло лишь 24588 человек), в Департаменте Соммы, Пикардия, Северная Франция. В 1184 г. Аббевилю было предоставлено право заниматься торговлей, и он процветал вплоть до 1685 г., когда вышел Нантский Эдикт, вынудивший протестантов, искусно владевших ремеслами, бежать. Закрытие порта на реке Сомме вследствие обмеления реки послужило причиной дальнейшего упадка. Готический собор Св. Вольфрама, с колокольней XIII века, сильно пострадал во время Второй Мировой Войны.
«…в отели, указанные в Джоаннз-Гайд…» – Упомянут один из популярных в свое время путеводителей для туристов.
…осматривал фронтон собора св. Вольфрама… – Св. Вольфрам (Vulframnus) – епископ Сенса, проповедовавший во Фризии. Он родился в Милли, возле Фонтенбло, вероятно во время правления Кловиса II (638–656), умер не ранее 704 г. В этом году было перевезено его тело. Мощи святого были помещены в собор Нотр-Дам в Аббевиле в 1058 г. День Св. Вольфрама празднуется 20 марта (см.: Католическая энциклопедия, http://www. newadvent. org /cathen ).
…камень, упавший с помоста, воздвигнутого вокруг северо-западной башни, разбил ему голову, и, как точно доказано, на помосте не было в тот момент рабочих… – Здесь, как нередко у М. Р. Джеймса (см. хотя бы примечание, истолковывающее название новеллы), присутствует игра слов, не всегда поддающаяся переводу, или отчасти утрачивающая при переводе смысл . Слово « scaffold », наделенное прилагательным, бесповоротно означает «строительные леса», что в данном случае вполне актуально. Однако то же слово, прилагательного лишенное, означает «помост», который способен выступать в качестве синонима к тем же «строительным лесам», но, в первую очередь, напоминает о помосте, на котором вершатся казни. Следовательно, смерть Карсвелла возможно истолковать и как случайность, и как закономерность, кару либо месть, не отыскавшую цели и вернувшуюся к тому, кто направил ее.
Неопределенность концовки, придающая, тем не менее, новелле особую выразительность, полностью соответствует художественному методу, избранному автором. О сознательном выборе свидетельствует и тот факт, что в первом варианте новеллы, как сообщает М. Кокс, присутствует исключенный автором фрагмент, смысл которого сводится к следующему. Вечером того дня, когда погиб Карсвелл, невдалеке от Аббевиля местный натуралист заметил большую птицу, «по виду грифа», направляющуюся на север, и хотя «приближающиеся сумерки не давали ему возможности разобрать точнее, он утверждал, что убежден – на самом деле создание это не было грифом».
…после должного перерыва, Харрингтон пересказал Даннингу кое-что из того, что слышал, когда его брат разговаривал во сне, но Даннинг скоро остановил его . – Ночные кошмары часто связывали с приходом демона-суккуба (Гуили 1998, с. 401). Стоит напомнить, что кошмары снились и герою новеллы М. Р. Джеймса «Два лекаря», также, по-видимому, пострадавшему от чужой злонамеренности.
К рассказу "Подброшенные руны" ( ) )
|
|


 Главная
Главная Поэтика
Поэтика Обзоры и рецензии
Обзоры и рецензии Словарь
Словарь Фильмография
Фильмография Библиография
Библиография Интернетография
Интернетография Нужные ссылки
Нужные ссылки Мои работы
Мои работы Об авторе
Об авторе